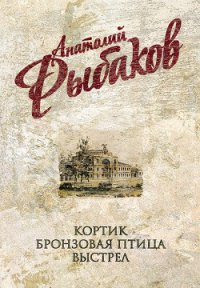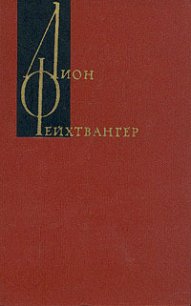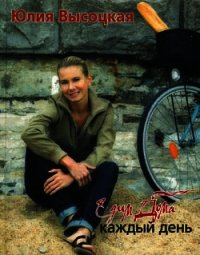Гражданин тьмы - Афанасьев Анатолий Владимирович (читаем книги .txt) 📗
— Избави бог! Вижу, культурный человек, почему не поговорить.
— Поговорил — и ступай. Или все же освежить? Приклад опять дернулся к моему брюху, но видно было, что Зема шутил. Я совсем осмелел.
— А были случаи, чтобы кто-нибудь убегал? Ведь даже из тюрем иногда бегут.
— Аннигиляция, — ответил Зема, начиная хмуриться.
— Это понятно, что аннигиляция. Но все же живые люди. Можно, наверное, кого-то, допустим, подкупить. Сейчас всех подкупают. Вплоть до судей.
Аннигиляция, — третий раз повторил охранник, наливаясь нехорошей краснотой. Его терпение было на пределе.
— Хорошо, хорошо, аннигиляция… Это разумно. Вы сами, многоуважаемый, давно здесь работаете?
Четвертый раз упомянуть про аннигиляцию Зема не успел потому что из будки выскочил его товарищ по кличке Бутылек. Этот был невменяемый и сразу врубил мне сапогом в живот. После чего они, хохоча, хлопнули друг дружку ладонью о ладонь, словно поздравляя с забитым голом.
— Добить? — спросил Бутылек у Земы как у старшего.
— Не надо, — отозвался тот. — Пусть ползет. Подготовишка. Нельзя портить.
Кряхтя, я поднялся с газона и заковылял к корпусу. Вместе с болью испытывал праздничное чувство. Все-таки с Земой получился нормальный, не чумовой разговор, почти как на воле. И контакт возник не хуже, чем с Фоксом. Столько радости в один день…
Возле волейбольной площадки, где, как обычно, с десяток пациентов с азартом перебрасывались несуществующим мячом, столкнулся нос к носу с писателем Курицыным. Он как раз выходил из беседки с огромной, в кожаном переплете книгой под мышкой, похоже, специально вышел, чтобы пересечься со мной.
— Сударик мой, Игудемил батькович, да на вас лица нет. Чего это вы поперлись к воротам? По какой крайней надобности?
— Черт попутал. — Низ живота у меня отяжелел и висел суверенно от туловища. — Хотел ребяток сигареткой угостить, и вот такая оказия.
— Хорошо так обошлось… Могли жизни лишить. У них рекомендации строгие. Не ходите к ним больше.
— Да уж, спасибо за совет… Никак новая книжка, Олег Яковлевич? Опять про обустройство России-матушки?
— Напрасно язвите, голубчик. Книга не новая, издание склюзивное. Надысь из Европы прислали. В заграницах xотя и много всяческой нечисти, а понимания у людишек побольше нашего. Уважают. Почитывают… Кстати, не угодно ли полистать на досуге?
Протянул книженцию, которую я чуть не выронил: тяжелая, пуда на полтора.
— Благодарствуйте, сегодня же прочитаю.
— Спеху нет, а хотелось бы услышать мнение просвещенного человека, хотя и россиянина. Вы ведь, кажется, до того как сюда переместиться, в ученой братии числились?
— Где только не числился, чего теперь вспоминать…
Не терпелось мне добраться до кровати, отлежаться чуток, и не совсем вежливо я раскланялся. — Извините, Олег Яковлевич, на горшок подпирает.
— Еще бы — посочувствовал великий гуманист. — Шалить надобно поменьше, оно и не подопрет.
На этаже случилась еще одна встреча — с красавицей Макелой. Могучая негритянка-мойщица завлекательно улыбалась, и понятно почему. У меня в руках книга, а у нее нарядная коробка с модными штатовскими презервативами. Тоже характерная подробность здешней действительности. Все женщины в хосписе, и персонал, и их подопечные, в соответствии с программой планирования семьи были стерилизованы, но Макела упорно продолжала предохраняться.
Меня это умиляло. Однако пришлось ее огорчить.
— Все, Макелушка. Финита ля комедия, — пожаловался я. — Бутылек отбил все внутри. Конец нашей любви, дорогая. Не поверила, хитрющая.
— Медвежонок мой, — пропела умильно. — Один разочек снасилуешь, разве повредит? Резинки отличные, с тройной защитой, кожаные. По блату достала. Надо же опробовать.
Я был тверд.
— Нет, Макелушка, ничего не выйдет. Может, ближе к ночи отлежусь, а сейчас — нет. Помираю.
— Помереть не дадут, — обнадежила негритянка. — Не надейся… Давай Настю кликну, помоем тебя. Тазик принесем, переносной аппарат. С сольцой пропесочим — сразу воспрянешь.
— Не хочу. Дай поспать, Макела. Сгинь.
Неожиданно послушалась. Грустно улыбнулась, коробку поставила на пол у двери.
— Если для Насти себя бережешь, лучше не надо, — предупредила. — Она сволочь большая.
— Чем же она сволочь?
— А вот не скажу. У нас до тебя был тоже общий мужик. Из интеллигентиков, как и ты. Беспрекословный, мякенький. И чего она с ним учудила?
— Ну?
— Яйки перетянула веревкой и затрахала до смерти. Пока не посинел.
— Врешь! Сама сказала, здесь не помирают.
— Откачали, конечно. Только после он уже ни на что хорошее не годился. Не насильничал больше… Вот она какая. И ведь все от жадности, чтобы никому не досталось, только ей.
Мне стало невмоготу, и я быстро распрощался, юркнул в комнату и задвинул щеколду. Но тут меня ждало потрясение, равноценное всем, произошедшим за эти дни, вместе взятым.
На кровати сидели в обнимку две мои кровиночки — Виталик и Оленька. Меня не заметили, потому что с увлечением разглядывали фотографии, которые Оленька одну за другой доставала из фирменного пакета и комментировала. Наверное, я должен был обрадоваться, но я замер на месте, окоченел от ужаса. Слишком оба были живые, веселые, но ведь этого не могло быть на самом деле. Виталик в галстуке, но без штанов, со вздыбленным мужским естеством, Оленька в черной офисной юбке, но до пояса обнажена. Пухлые грудки отсвечивают двумя розовыми абажурами. Пока я стоял посреди комнаты, словно в параличе, они несколько раз отрывались от фотографий и взглядывали на меня, но словно не видели, словно это я был призраком, а не они.
— Это мы с Володечкой на Канарах, на яхте «Стрип-пилз». Видишь, какая красивая иллюминация, — говорила Оленька, тыча пальчиком в фотку. — А это в Иерусалиме, на Святой горе. Видишь, вот аналой, вот плита, здесь спуск в преисподнюю.
Виталик важно жевал губами. — Он как, по-прежнему у тебя на поводке? — Как ручной, — смеялась Оленька. — У него же в голове одни опилки.
Я понял, о ком они говорили и кого разглядывали на снимках. Разумеется, Владимира Евсеевича Громякина, бессменного, еще с правления Горбача, претендента на президентcкое кресло. Я и прежде верил и не верил, что моя двадцатитрeхлетняя девочка так высоко забралась, вплотную подошла к черте, где кончается все человеческое и правит только рок.
К Володе Громяке россияне привыкли, как к доллару. За ним тянулась слава великого патриота и правдолюба, который знает, что делать для того, чтобы все люди за несколько дней разбогатели, но злые силы не дают ему ходу. За пятнадцать лег он ничуть не изменился, не постарел, не похужел, все такой же упитанный, с надутыми щеками, импозантный господин произносящий одни и те же абсолютно непогрешимые речи. Особенно убедительно сверкали его налитые вселенской обидой глаза, когда он боролся с экрана с коррупцией, коммунячьей заразой и абортами. Я давно воспринимал его как прохудившуюся россиянскую карму, а вот Оленька, говорят, стала его ближайшим советником. Чудны дела твои, Господи!
Постепенно от фотографий дети перешли к обсуждению моей персоны.
— Не знаю, что делать с отцом, — посетовал сын. — Пьет запоем.
— Поразительно! Раньше вроде за ним не водилось…
— Бывало и раньше, но по полной программе недавно оттягивается. Теперь там и шлюхи, и карты. Каких-то прохиндеев домой водит, когда матери нету. Где деньги берет, неизвестно. Работать совсем перестал. Да и какая приличная фирма будет иметь дело с алкашом?..
Виталик в рассеянности почесал причинное место — отвратительный, ужасный жест. Оленька будто ничего не заметила.
— Мама что говорит?
— Да что она скажет, ты же ее знаешь… Убивается, плачет. Он и вещи продает, не брезгует. Недавно слил куда-то видак и колечко с изумрудом. Помнишь, из бабкиного наследства?
Оленька ненадолго задумалась, поглаживая конверт с фотографиями.
— Жалко папку, конечно, но ведь так он может карьеру мне испортить. Ты же знаешь, я вся на виду. Этим щелкоперам только повод дай: обольют грязью — вовек не отмоешься.