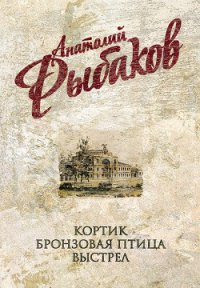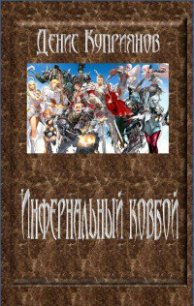Московский душегуб - Афанасьев Анатолий Владимирович (книги серия книги читать бесплатно полностью TXT) 📗
В тридцать девять лет получил генеральские погоны.
В органах ему было хорошо, но профессионалы его не жаловали. Да он и сам вполне трезво оценивал свои способности. Верный ленинец, сын верноподданных родителей (отец высокопоставленный чиновник МИДа), он горбатил карьеру на преданности начальству, но был себе на уме. С приходом Горбачева одним из первых почувствовал, что пора делать финт ушами. Отходный маневр исподволь готовил давно, и перестройка не застала его врасплох. Еще многие коллеги, которые привыкли смотреть на него свысока (разведчики, мать их за ногу!), в тревожном изумлении протирали глаза, а Мещеряков уже дал два огромных разоблачительных интервью журналу "Огонек", где объявил, что наконец-то прозрел. Откупной (от прогнившего режима) матерьялец он накопил изрядный, но в первых публичных выступлениях отделывался общими фразами и пышными декларациями (нарушения прав человека, общечеловеческие ценности и прочая чепуха), подобно тогдашним народным витиям. Из партии выскочил лихим чертиком, с опережением даже известных актеров, и не путем ублюдочной неуплаты членских взносов, а с помпой, с открытым забралом, с публичным преданием анафеме проклятых большевиков. Он крупно рискнул и крупно выиграл. Ставкой была голова, в награду получил всенародное признание. Следующие два-три года прошли в счастливом угаре: в беспрерывном мотании по заграницам, под вспышки телекамер, в цветах и шампанском.
Вдобавок Мещеряков передружился, считай, со всеми фаворитами заядлого суматошного времени, начиная от важного, философски накачанного Гаврюхи Попова, с его абсолютным завораживающим цинизмом, и кончая неистовым Гдляном, которого опасался по наитию.
Хлебнул, хлебнул праздника по уши, но где-то к девяностому году настороженным хребтом почуял знобкий ветерок новых перемен. Слава Богу, делать еще один акробатический кульбит не понадобилось, на что у него, обласканного фортуной, пожалуй, не хватило бы сил. На ту пору случай вывел его на человека, в котором он прицельным взглядом партийного службиста сразу угадал окончательное благополучное обеспечение судьбы. На одной из пышных презентаций в Доме кино его познакомили с известным спонсором и покровителем искусств Елизаром Суреновичем Благовестовьм, и тот пригласил его на уик-энд в свой загородный дом, где после небольшой приватной беседы, похожей на конкурсный экзамен в аспирантуре, предложил обыкновенную деловую сделку: ты мне информацию, а я тебе денег столько, сколько сумеешь потратить.
– Причем, – благодушно заметил на памятной встрече Благовестов, – учти, Паша, ты столько не стоишь. Я мог бы купить тебя в десять раз дешевле. Считай, это мой дачный каприз.
Мещеряков не обиделся, он давно не придавал значения оскорбительным словам, памятуя все ту же пословицу о горшке. С тех пор лишь один-единственный раз он попытался ослушаться навсегда обретенного благодетеля. Как-то через своего человека Благовестов передал ему указание, чтобы он затаился, не мозолил глаза людям, не лез в телевизор и газеты, а жил смирно и незаметно, как сверчок. Как раз началась августовская дележка, всходили новые имена, на политическом театре кукол менялись декорации. Мещеряков и сам понимал, что следует переждать. Поддался все же на уговоры очаровательной трещотки, курочки с телевидения и выступил в какой-то модной демократической тусовке. Ничего особенного не говорил, лишь скупо посетовал на разброд и шатания в общественном организме, но – высветился, нарушил приказ. Расплата была быстрой и немудреной. Вечером два дефективных подростка подстерегли в подъезде и так наломали бока, что целую неделю отлеживался на полатях. Позвонил Благовестов и посочувствовал:
– Ах, Паша, слышал, приболел ты чуток? Как же так, не бережешь себя! Немолодой ведь уже человек.
– Бес попутал, Елизар Суренович. Больше не повторится.
Действительно, не повторилось. Да и черт с ней, со славой, с публичностью. Есть вещи более значительные и даже более привлекательные для нормального человека. Дом, семья, любовь. Все это требовало постоянных подпиток. Семья у Мещерякова к шестидесяти пяти годам образовалась не одна, а три, и это если не считать озорных молоденьких сожительниц, которым он любил пощипывать перышки. Все, кому он покровительствовал, были обуты, одеты и жили припеваючи. Дети получали образование в самых престижных учебных заведениях, двое сыновей уже управляли собственными фирмами, старшая дочь вышла замуж за англичанина и укатила в Ливерпуль, другая крутилась под его крылышком в отделе лицензий, и у нее был открыт собственный счет в Женеве; любимому внучку Петрику он спроворил американское подданство, – и все это обходилось недешево, но он был чадолюбивым отцом, и ему было чем гордиться. Случился, правда, горчайший прокол с младшей дочерью от третьей жены, семнадцатилетней красавицей Жаннет, в которой он души не чаял.
Бедняжка отравилась героином и в одночасье померла.
Он не простил недосмотра ее матери, распустехе и засранке Дарье Дмитриевне, озабоченной только светскими развлечениями, и резко сократил ей содержание до пятисот долларов в месяц. Вдобавок решил с ней развестись и прикупил резервную двухкомнатную квартирку на Садовом кольце.
Исподволь, потихоньку, как истинный патриот отечества, начал Мещеряков задумываться о том, какое духовное наследство, кроме материального, оставит он своим детям, внукам и правнукам. Так уж повелось на Руси, что единым хлебом сыт не будешь, и уж кому-кому, а Мещерякову было что завещать потомкам. Интересных мыслей и наблюдений накопилось предостаточно, и было бы обидно, да и безнравственно, уносить их с собой в могилу. Постепенно в нем вызрело решение, что он должен и не просто должен, а обязан написать книгу воспоминаний, книгу-заповедь, в которой все его дела и свершения предстанут в истинном историческом аспекте. Конечно, сейчас этим занимались многие столпы общества, но все они поголовно преследовали корыстные цели, и читать их лживые, претенциозные книжонки было отвратительно. Правды о нашем бурном, сложном времени еще не сказал никто, и Мещеряков чувствовал, что призван восполнить этот пробел. У него были уже составлены план книги и даже разбивка по главам (юность, отрочество, политическая зрелость, восхождение на Олимп власти), но дальше этого не пошел. Загвоздка была небольшая, но чувствительная: Бог не дал ему писательского таланта. Как и все, кто управлял страной, при составлении служебных справок, не говоря уже о больших программных выступлениях, он пользовался сноровкой штатных помощников, всей этой писучей нагловатой государственной челяди, которая умела нанизывать слова как-то так ловко, что получалось впечатление ума и значительности. Тут была какая-то роковая загадка, которую нелегко было разгадать. Сами по себе эти никчемные людишки не представляли ничего путного, серая, гомонливая канцелярская и журналистская шушера, падкая на деньги и хозяйскую ласку, но вот поди ж ты: на бумаге ухитрялись из любой брехни слепить конфетку. Разумеется, Мещеряков им не завидовал и не воспринимал их таланты всерьез, каждому свое: одним властвовать, другим вести летопись их деяний, – беда была в другом. Ни к кому из штатных умельцев он не мог обратиться за помощью, потому что это непременно стало бы известно Благовестову. Одного урока с тремя переломанными ребрами генералу вполне хватило.
Появление в их смрадной конторе впечатлительного, скромного белокурого юноши Мещеряков воспринял как перст Божий. В последующие встречи прощупал его основательно и убедился: да, это то, что нужно. Грамотный, покладистый, книжный мальчик, из него можно веревки вить, к тому же пописывает стишки. Мещеряков заставил его почитать: что-то невразумительное про луга, поля и долины, но трогательно и складно. Именно литературно. Наконец, он взял быка за рога, запер дверь в кабинет, угостил мальчика сигаретой и сказал:
– Вот ты все отказываешься, Ваня, перейти ко мне в отдел, не пойму почему, но предложение, которое хочу сделать, тебя, полагаю, все же заинтересует. Ты умеешь хранить секреты?