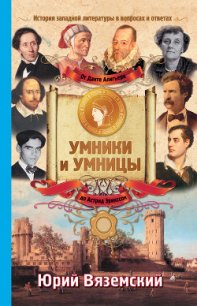Шерлок от литературы (СИ) - Михайлова Ольга Николаевна (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
— Ну, аристократка…
— Нет, она была из семьи железнодорожника, это отнюдь не дворянская среда. И странно, что её не научили там мыть посуду. А она, судя по всему, даже волосы себе не расчёсывала. Это, правда, «из зловредства». Равно, и она даже сама не отрицала этого, Ахматова была дурной матерью: сына младенцем отдала родственникам, почти не виделась с ним и не интересовалась им, в лагерь и на фронт писала мало, посылки присылала «самые маленькие», жила без сына весело, вмешивалась в его личную жизнь, научных достижений не признавала.
— Ты говоришь так, словно ненавидишь её.
Мишель покачал головой.
— Это голые факты, я ничего не перевираю. Честолюбие и мечта о славе — вот её стержень. Посмотри сам. Бродский, который знал её, в общем-то, хуже всех, говорил, однако, что она ничего не делала случайно. Надежда Мандельштам вторит ему: «В последние годы Ахматова «наговаривала пластинку» каждому гостю, то есть рассказывала ему историю собственной жизни, чтобы он навеки запомнил её и повторял в единственно допустимом ахматовском варианте». «Она заботилась о посмертной жизни и славе своего имени, забвение которого было бы равнозначно для неё физической смерти», свидетельствует Ольга Фигурнова. «Она, конечно, хорошо понимала, что все её сохранившиеся письма когда-нибудь будут опубликованы и тщательнейшим образом исследованы и прокомментированы. Мне иногда даже кажется, что некоторые из своих писем Ахматова сочиняла в расчёте именно на такие — тщательные, под лупой — исследования будущих «ахматоведов». Это снова диалоги Волкова с Бродским. И наконец, Корней Чуковский: «Она никогда не забывала того почётного места, которое ей уготовано в летописях русской и всемирной словесности». И все эти люди, а можно найти и ещё дюжины подобных свидетельств, говорят, что Ахматова продуманно и чётко создавала себе легенду: аристократка, возлюбленная лучших мужчин, вдова трёх мужей, мать-мученица, героиня-страдалица, жертва Сталина, гениальная поэтесса, литературовед-пушкинистка, истово верующая, всемирная слава, равновеликая Данте и Петрарке.
— Ну, ладно. Она не вдова трёх мужей. И мужчины не любили её, в этом ты меня убедил. У неё были плохие отношения с сыном. Но было же и Постановление сорок шестого года, и стихи были.
Литвинов умерил мой пыл лёгким покачиванием головы.
— О, это отдельная история. Пойми, эмоции враждебны чистому мышлению. В таких случаях, как этот, нужно поставить себя на место действующего лица, и, уяснив для себя его умственный уровень, попытаться вообразить, как бы ты сам поступил при аналогичных обстоятельствах и что чувствовал. Так вот — я бы на месте Ахматовой обрадовался этому постановлению. Оно же буквально вписывало её в историю! Делало мученицей и страдалицей. Разве не к этому она стремилась? Я не имею предвзятых мнений, а послушно иду за фактами. Это постановление для неё — подарок судьбы.
— Ну, это ты уж перегибаешь палку…
Литвинов пожал плечами.
— Разве? Однако к постановлению мы вернёмся чуть позже. Пока же ты считаешь, что подобная трактовка её поступков не согласуется с её образом. Правильно. Но ведь в том-то и дело, что весь образ великой Ахматовой создавался ею же. Найман цитировал её слова: «У меня есть такой приём: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. Через некоторое время он искренне убеждён, что это ему самому в голову пришло». Для верности нужные формулировки она многократно повторяла. «Войдя в зал заседаний и заняв предназначенное ей место, она обратила внимание на мраморный бюст Данте, стоящий поблизости. «Мне показалось, что на лице его было написано хмурое недоумение — что тут происходит? Ну, я понимаю, Сафо, а то какая-то неизвестная дама…» Это воспоминание Д. Журавлева — снова с её слов. Советские поэты поехали в Италию по приглашению тамошнего Союза писателей, а её не пустили, и она говорит: «Итальянцы пишут в своих газетах, что больше бы хотели видеть сестру Алигьери, а не его однофамилицу». Это о Маргарите Алигер. Но, прости, Юрик, я никогда не поверю, чтобы итальянцы такое написали. Это было бы грубо и по-хамски по отношению к гостям. В это просто невозможно поверить. Не говоря уже о том — где она взяла эти итальянские газеты, и кто бы их ей перевёл? Она лжёт.
— Как я понял, — перебил я его, — ты затрудняешься понять, где в воспоминаниях подлинные факты, а где — подложная мысль Ахматовой?
— Именно. Она обладала талантом медиума и умела внушать — правда, только не очень умным и слабым духом людям свои мысли. Блок, Бахтин, Чуковский — все люди с головой от неё отворачивались или видели то, что было. «В «Чётках» слишком много у начинающего поэта мыслей о «славе». Пусть «слава» — крест, но о кресте своём не говорят так часто». Это Иванов-Разумник, «Забытой Ахматова как раз быть не хотела. Вся долгота её дней была воспринята ею как шанс рукотворно — обманом, настойчивостью, манипулированием — создать себе памятник», — это Солженицын. Впрочем, не только собратья по перу видели королеву голой: и простые обыватели замечали её позёрство и завышенные амбиции. «Мне кажется, однако, что царственному величию Анны Андреевны недоставало простоты — может быть, только в этом ей изменяло чувство формы. При огромном уме Ахматовой это казалось странным. Уж ей ли важничать и величаться, когда она Ахматова!» Это Всеволод Петров. «У Ахматовой, по-моему, совсем не было чувства юмора, когда дело шло о ней самой; она не хотела сойти с пьедестала, ею себе воздвигнутого». Это из книги Михаила Кралина «Артур и Анна», и там же: «Очень все преувеличено в сторону дурного вкуса и нескромности». А вот Эмма Герштейн: «Я часто замечала, что перед женщинами Анна Андреевна рисовалась, делала неприступную физиономию, произносила отточенные фразы и подавляла важным молчанием. А когда я заставала ее в обществе мужчин, особенно если это были выдающиеся люди, меня всегда заново поражало простое, умное и грустное выражение её лица. В мужском обществе она шутила весело и по-товарищески». То есть королеву умные люди видели голой. И даже не боялись об этом говорить.
— Артистизма ей не занимать.
Литвинов кивнул.
— При этом если долго играешь, неизбежны «накладки»: «Торопится уехать в Ленинград. Я спросила: зачем. Она ответила: «Чтобы нести свой крест». Я сказала: «Несите его здесь». Вышло грубо и неловко» Это — нашла коса на камень. Фаина Раневская была слишком актриса, чтобы не разглядеть чужого актёрства. Но остальные не были столь проницательны. В стихотворении «Летят года» Дудин называет Ахматову «Сафо двадцатого столетья». «Обессиленная чайка творчества в мучительно сжатых руках побледневшей Ахматовой». Это Смирнов. «Великие испытания заставили этот голос звучать горько и гневно и, вероятно, такою и войдёт Ахматова в историю». Это Оксёнов, рецензия на «Чётки». «Не забуду, когда, сидя у нас дома на диване, Анна Андреевна величественно слушала граммофонную запись своего голоса. Голос был низкий, густой и торжественный, как будто эти стихи произносил Данте, на которого Ахматова, как известно, была похожа своим профилем и с поэзией которого была связана глубокой внутренней связью. Ахматова сидела прямо, неподвижно, как изваяние и слушала гул своих стихов с выражением спокойным и царственно снисходительным». Это Максимов, книга «Об Анне Ахматовой, какой помню». Тут явно проступает как раз подсознательная трансляция ахматовских слов комментатором.
— Но ведь какая-то слава у неё была?
— Да, но скорее, эстрадная, и то — в десятых годах. Она была кумиром «фельдшериц и гувернанток», но очень недолго. Долго её читать трудно. Я могу прочесть десять её стихов — и они мне понравятся. Но я читаю ещё десять — а они точно такие же, с теми же приёмами и тем же содержанием. Ещё десять — и уже не хочется это читать: смутно понимаешь, что и всё остальное — такое же мелковатое и жеманное. При этом она, даже имея славу, всегда завидовала более удачливым. Вот посмотри. «Анна Ахматова заговорила со мной о Максиме Горьком. Она сказала, что он настолько знаменит, что каждое его замечание и каждая его записка будут запоминаться, и будут где-то опубликованы. У меня осталось впечатление, что, говоря о Горьком, Ахматова думала о себе». Это Л. Горнунг. Подмечено точно.