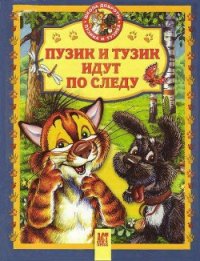Антология исторического детектива-18. Компиляция. Книги 1-10 (СИ) - Хорватова Елена Викторовна
Тот внимательно их рассмотрел, поднес к лампе, постучал ногтем по стеклу и поинтересовался:
— Солнечным светом?
— Да, разумеется.
— Можно. Плохие у вас, Юрий Михайлович, часы. Дорогие, но оптически бессмысленные. Кто же это такие делает, а? — Всмотревшись в надпись, Федор Фомич усмехнулся еще ироничнее. — Понятно!
Ничуть не обидевшись, Можайский продолжил:
— А… бочку с кислотой?
Федор Фомич нахмурился:
— Бочку? Открытую или закрытую? Какого материала? Початую или полную и все еще опечатанную?
— Допустим, початую, небрежно используемую и хранящуюся, материала… ну… я не знаю: обычного. Какой материал вообще используется для таких бочек? — Можайский растерянно пожал плечами. — Железо? Жесть?
Федор Фомич тоже пожал плечами, но комментировать предположения своего гостя не стал. Вместо этого он взял металлический стаканчик, наполнил его каким-то маслом, оказавшимся тут же, под рукой, капнул маслом на внешний бок — капля, сползая вниз, оставила на поверхности видимый невооруженным взглядом след, — накрыл, но не полностью, стаканчик тонкой — металлической же — пластинкой, капнув маслом и на нее. Масло на пластинке растеклось небольшой лужицей.
Повернув часы от лампы так, чтобы максимально сфокусировать световой луч, Федор Фомич направил его на получившийся в своем роде физический прибор.
Некоторое время ничего не происходило. Возможно — Федор Фомич прямо высказал такое предположение — ламповый свет по силе никак не мог тягаться со светом солнечным. Но вдруг, в какой-то неясный и потому неожиданный момент, масляная лужица на пластинке задымилась. Еще через мгновение по ней пробежал голубоватый, почти невидимый огонек. Огонек, словно стелясь по поверхности, переметнулся с пластинки на бок стаканчика и побежал по масляному следу вниз. А потом произошло и вовсе чудесное: над отверстием, оставленным не полностью закрывавшей стаканчик пластинкой, показалось облачко — то ли дым, то ли пар, понять было невозможно. Облачко быстро сгустилось, и тут уже изнутри стаканчика повалил самый настоящий дым — обильный и плотный, в котором, тем не менее, можно было разглядеть огонь. Гостиную начала заполнять удушливая вонь.
Налюбовавшись делом своих рук, Федор Фомич подхватил стаканчик щипцами и вынес его прочь: очевидно, в кухню, где и потушил разгоревшийся было «пожар». Вернувшись в гостиную, он вернул Можайскому часы, не преминув опять иронично усмехнуться:
— Да у вас не часы, Юрий Михайлович, а какая-то адская машинка! Но, вижу, вы расстроены? Неужели этим?
Можайский действительно выглядел расстроенным. Или, возможно, не столько расстроенным, сколько неприятно озадаченным.
— Признаюсь, я не ожидал, что получится. Это… как бы сказать?.. не укладывается в одну из моих теорий.
— Пустяки! — глаза Федора Фомича заблестели неожиданным удовольствием. — Если что-то не укладывается в теорию, это еще не означает, что теория неверна. Вполне ведь может быть и так, что неверной оказалась постановка опыта!
— А ведь и правда! — Можайский оживился. — Что же это я? Я ведь думал совсем не о часах: они всего лишь натолкнули меня на мысль. Проблема не в них, а в окне!
— В окне? — Федор Фомич немного опешил.
— Да, именно в окне. Точнее — в оконном стекле, конечно.
— А!
— Вот именно. — Можайский подошел к окну гостиной. — Скажите: может ли солнечный луч, переломившись через это — или нет: вообще через оконное стекло, — поджечь ту самую бочку? Загорелось бы масло в стаканчике?
Федор Фомич тоже подошел к окну и, встав рядом с Можайским, некоторое время рассматривал отражавшую их лица и фигуры поверхность. Лица и фигуры выглядели немножко странными, чуточку карикатурными. Еще немного, и можно было бы представить, что пристав и хозяин квартиры смотрятся в волшебное зеркало комнаты смеха.
— Вообще-то, — Федор Фомич провел пальцем по стеклу, — производство оконных стекол, несмотря на всю почтенную древность данного промысла, находится… гм… in statu exordi [16]. Не сомневаюсь, что когда-нибудь, в будущем, и, возможно, учитывая бурное развитие технической мысли и технических средств в последние лет двадцать или около того, в будущем совсем уже недалеком мы научимся делать то, что современники сочтут само собой разумеющимся, а мы — поначалу, конечно — будем считать вершиной и чудом fenestra productae [17]. Но пока что — взгляните.
Федор Фомич, неожиданно обхватив Можайского за плечи, буквально развернул его так, чтобы его взгляд падал на стекло под определенным углом.
— Видите, какая неровная и неоднородная поверхность?
— Вы говорите об этих… волнах и словно бы вкраплениях каких-то пузырьков?
— Совершенно верно. Стекло кривое, с лакунами и неодинаковой толщины по всей своей площади.
— И что это значит?
— Всего лишь то, — в голосе Федора Фомича снова послышалась добродушная ирония, — что при определенных обстоятельствах такое стекло может явиться чем-то наподобие линзы, направив через которую солнечный луч, можно поджечь и вашу кислотную бочку.
— Ах, вот как…
Можайский опять расстроился, что вызвало уже не иронию даже, а откровенную насмешку Федора Фомича:
— Вижу, Юрий Михайлович, вы обескуражены?
— Пожалуй.
— Напрасно.
— Не очень, знаете ли, приятно отказываться от зародившейся было идеи!
— А вы и не отказывайтесь. Взгляните на ситуацию шире.
Можайский непонимающе посмотрел на усмехающегося старика и пожал плечами:
— Куда уж шире, если даже вы подтвердили возможность возгорания бочки с кислотой из-за преломившегося в оконном стекле солнечного луча!
— Вот что, — Федор Фомич увлек Можайского к креслам и, усадив, наставил на него указательный палец, став удивительно похожим на профессора, отчитывающего нерадивого студента. — Вот что, голубчик. Сидение на стуле участкового пристава явно сказалось на ваших умственных способностях. Причем, с прискорбием должен это отметить, сказалось далеко не в лучшую сторону. Налицо, очевидно, то, что коллеги-медики могли бы — справедливо, нет ли, не мне судить — назвать perturbatio mentis [18]. Но что лично я охарактеризовал бы депривацией.
— Федор Фомич… — Можайский покраснел. — Право слово…
— Даже не спорьте, Юрий Михайлович, даже не спорьте! Возможно, я подобрал неверный термин — да. Но поверьте, сделал я это исключительно из уважения к вам и смягчения ради страшной правды. Не скажешь ведь прямо в лицо симпатичному тебе человеку, что он — осел! По меньшей мере, это было бы невежливо.
— Федор Фомич! Да что, в конце концов, вы имеете в виду?
Во взгляде профессора появилось искреннее удивление, граничившее с недоумением.
— Помилуйте! Юрий Михайлович, дорогой, вот прямо сейчас — вы где находитесь?
— Сижу в кресле в вашей гостиной. Или вы о ходе моих мыслей? О том, где я нахожусь не физически, а, так сказать, ментально?
— Мыслей! — Федор Фомич фыркнул так, что его пышная борода на мгновение вздулась парусом. — Каких еще мыслей? Вы явно и грубо льстите себе! Сидите, как ни в чем не бывало, в моем кресле в моей гостиной, любуетесь моим персидским ковром… ну ладно, ладно: у меня нет персидского ковра, но ведь скатертью на столе вы любуетесь, правда? Белоснежной, замечу, скатертью!
И тут до Можайского, наконец, дошло. На мгновение он приоткрыл — от изумления очевидным — рот, а потом расхохотался.
— Господи, ну и дурак же я!
— Ну, слава Богу! — Федор Фомич улыбнулся. — Ох, и нелегкой была бы работа у наших пожарных: сплошная забота — в солнечный день полыхало б вокруг так, что тушить не хватало бы рук!
Можайский обвел удовлетворенным взглядом совсем не походившую на пепелище гостиную, приподнялся из кресла и сердечно потряс руку также приподнявшемуся Федору Фомичу.