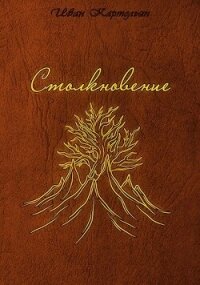Чудо, тайна и авторитет - Звонцова Екатерина (читать книги без .TXT, .FB2) 📗
— Тсс…
Перед ним стоял секретарь — в обычном костюме мышиной, а вовсе не петушиной расцветки; с одуванчиковой шапкой русых волос; с расчетной тетрадью под мышкой. Цепкие выпуклые глаза его забегали по Ивану вопросительно и настороженно, явно выискивая что-то подозрительное.
— Добрый день. — Иван кивнул и безмятежно улыбнулся. — Дособираю… — он помедлил, сделал внушительный вид, — материал, так сказать. Черты к портрету; ничто ведь так их не прибавляет, как наблюдение тайное…
Он даже сумел двусмысленно подмигнуть — помог задергавшийся глаз.
— Отвратительно. — Бледно-розовые губы Петуховского жеманно-одобрительно изогнулись, а потом он, явно потеряв к беседе интерес, зевнул. — Но умно. Ладно-с, а мне вот нужно бы заглянуть к мальчику, проведать… — И он пошел было дальше.
— Не ходите, он спит! — выпалил Иван и сам себе удивился. Петуховский был удивлен не меньше, заозирался. — Я уже заглядывал, ну, подглядывал и за ним тоже…
Звучало ужасно в контексте всего пережитого маленьким графом, но мысли Ивана слишком заметались. Путь по коридору у этого длинноногого секретаря займет меньше минуты, а вот тот же путь по карнизу даже у такого ловкого существа, как D., — минуты четыре. А может, R. так и не удалось его выпроводить; может, он еще тут; может, оба они, затаившись, слушают разговор в коридоре…
— Когда? — осторожно поинтересовался Петуховский, глянув Ивану через плечо.
— Да вот пять минут как. — Тот прислушался. В комнате то ли не говорили, то ли говорили теперь совсем шепотом. — И мне кажется, лучше бы зайти через полчаса или вроде того; может, проснется… жалко будить, у него ведь плохо со сном. Нет?
— Может быть, — задумчиво кивнул секретарь и, чуть оживившись, устремился к черной лестнице. — Что ж, раз так, пойду-ка пока в сад, выберу последние розы для графини, и пусть Александр срежет. Со мной пройтись не хотите-с…
Да что за народ эти деятели без тени обломовщины! В сад! Еще лучше! Иван спешно шагнул к секретарю, ухватил его под локоть и развернул в другую сторону.
— Да, да, буду рад, но, если можно, сначала просьбу! Как к хорошему товарищу!
Худой и действительно напоминающий одуванчик, Петуховский покачнулся, изумленно зыркнул из-под упавшей челки. Иван никогда с ним особо не расшаркивался, а тут ошпарил самой горячей дружеской улыбкой, припасаемой обычно для строгих экзаменаторов в университете. Улыбаться Иван умел, этого не отнять.
— Обещал мне тут граф, — он проникновенно понизил голос, — необычное издание, посмертный детектив Диккенса, где вроде бы нет концовки, можно и голову поломать… отвлекать его от дел не хочется, не поможете найти в библиотеке? Знаю ведь, читать вы тоже любите.
Петуховский, который вслед за графом относился к Ивану с покровительственным благодушием — пусть и был старше всего года на два, — конечно же, расцвел и согласился, затараторил что-то о последних выписанных из Англии романах.
Поиск «Тайны Эдвина Друда» занял даже больше, чем Иван надеялся, и ожидаемо окончился неудачей. Все время колупания в пыльных книгах он внутренне ликовал, сам не понимая почему. Укрыл заговорщиков. Маленького, не понимающего, что творит, и взрослого, который… который, черт возьми, что? Едва отступило ликование, едва отстал вездесущий Петуховский и закрылась резная библиотечная дверь, мысли снова накалились, впились крючьями. Голова совсем разнылась. Небо потемнело. Иван спешно покинул дом; пошел по холодному Каретному куда глаза глядят, погруженный сам в себя. Даже плащ не надел — просто волок на руке.
Что он услышал там, под чужой дверью? Как вышло, что мальчик запомнил чудовищную хватку на запястьях, но более — ничего? И что будет, когда — если — с годами оживет прочее? Боль; наверное, огромная боль от долгого самообмана… или? И снова громовой удар по вискам: а что, если «или» все-таки не имеет к R. отношения? Если он, Иван, не прав, и все прочие тоже? Что, если план их с газетой не мудр, а пагубен, не наказание, а преступление? Если…
Он одернул себя, замер посреди мостовой, поднял голову. Вдохнул. Выдохнул. Вспомнил склонявшиеся друг к другу лица юноши и мальчика, вспомнил испуганные графинины глаза, и синяки на тонкой коже, и цыган у порога. Смешал все в пестрый вихрь и слился с ним. Отбросил. Ветер дал ему пару хлестких морозных пощечин; прохожий толкнул, сверкнув красной сатиновой заплатой на локте; узорчатая карета-тыковка окатила подмерзшей грязью — все дергало, все волокло, все окликало: «Очнись, очнись, для чего это все?» И мысли, только что кипевшие смертельным водоворотом, вдруг прояснились. Замерли. Выкристаллизовались и наполнились ядом — привычным, бодрящим… спасительным.
Ничего не изменить. Так или иначе — нет. Если R. виновен, после осиной статьи он не выдержит, признается: измучен ведь. Если же невиновен, поступит предсказуемо, потребует извинений в той форме, в которой вправе получить их любой оскорбленный мужчина, — и Оса, человек чести, их непременно даст, не думая о разнице сословий. Скандал нужен так или иначе. Без шума правду не открыть. Для того, в конце концов, и есть беспощадное газетное слово, для того жужжат Осы всех мастей. И слава им. Иван накинул плащ, улыбнулся, прибавил шагу. Все же зашел в трапезную, купил себе пирогов и вернулся домой читать свежего Жюля Верна, дерзнувшего написать внезапно о русских [7].
Статья вышла через два дня. Еще через два R. выставили из Совиного дома.
Он не покаялся, не попробовал наложить на себя руки, не потребовал извинений — не сделал ничего. План провалился, сойтись пришлось на «унизительном», по словам графа, компромиссе: никаких полицейских, но и никаких выходных пособий. Огласка вроде получилась, но не гром среди ясного неба. Отсутствие имен тоже сделало свое дело: в дворянской Москве со временем внезапно нашлись и другие дома, подходящие на роль того самого, из фельетона: без змей, сов и роз, зато с грязными ночными секретами самого разного толка. Вряд ли R. теперь смог бы стать чьим-то учителем, но вот отец его, кажется, не пострадал, да и перед самим ним не закрылись все двери прочих служб.
Зато главное из-за фельетона все же изменилось, и необратимо. Яд перестал спасать.
Иван ярко запомнил тот туманный день: R. быстро уходил к воротам сквозь побитый заморозками багрово-белый розарий; Lize со злым лицом, делавшим ее еще некрасивее, наблюдала из окна, а прочие забились по углам, словно боясь встретиться друг с другом глазами. D. в своей комнате плакал, все еще не зная, почему его лишили белого рыцаря. Этот вой маленького призрака резал и слух, и душу. Может, от него все и попрятались?
Иван стоял с Lize и тоже не сводил с R. глаз. На краю дорожки тот помедлил: сорвал розу цвета чая, бережно спрятал в карман, смахнул кровь с уколотых пальцев. Все же обернулся — но взгляд метнулся не к гостиной, а к окну детской. Наконец ворота закрылись. Lize посмотрела на Ивана, кривовато улыбнулась и пробормотала: «Спасибо большое от всего сердца, за меня и за братца». Она потупила головку, сделала подобие книксена, запнулась, но ее тон… что-то екнуло в Иване, точно он услышал не благодарность, а издевку. Он кивнул с самым решительным видом, но, едва Lize убежала, сгорбился и, скрипя зубами, впился пальцами в собственные волосы, с силой их дернул.
Его мутило, лицо горело. Мучительно ныло жало — ведь это он, он был Осой, и, сам не ведая, Оса в те минуты умирал. Впервые он не верил в то, что написал, — только признаться до конца не смел даже себе. Гнев друга семьи схлынул, а сомнения голоса справедливости, не один год отвоевывавшего это звание, остались. Их укоренило гордое и скорбное молчание R.; укоренил плач мальчика, так и не спустившегося ни к завтраку, ни к обеду. Всем известно: оса, в отличие от пчелы, не погибает, единожды ужалив. Так и Иван жалил раз за разом, не зная печали и стыда. И вот его жало, кажется, сломалось.
«Если вдруг увидишь это существо еще хоть раз… напиши, что тебе нужен Оса». R. видел в своем палаче последнего и главного защитника для дорогого маленького друга. И чем больше Иван это осмысливал, тем сильнее ему хотелось действительно умереть.