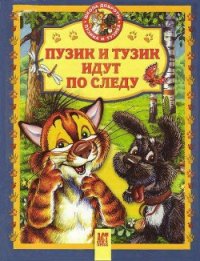Антология исторического детектива-18. Компиляция. Книги 1-10 (СИ) - Хорватова Елена Викторовна
Мякинин с ягодиц пересел на корточки, засунув руку в другой карман — не в тот, из которого он давеча выхватил оружие. И, как сие ни печально, здесь мы вынуждены отметить, что этот жест никого не насторожил: ни самого Можайского, ни Чулицкого, ни Инихова, ни Гесса с Любимовым. Возможно, потому, что в то же самое мгновение с порога кабинета донеслось деликатное покашливание, после которого приятный баритон вкрадчиво вопросил:
— Кажется, я в самое время?
Полицейские обернулись на голос: на пороге, положив руку на локоть дежурного офицера, стоял Михаил Георгиевич.
Возможно, то, что все отвлеклись на появление врача, и может до некоторой степени служить оправданием случившегося далее. Кто-то и прямо высказывал такую мысль. Но сам Можайский, вспоминая позже и рассказывая этот эпизод, неизменно хмурился — настолько, насколько это вообще было возможно при его-то и без того хмуром лице. Хмурился, неодобрительно качал головой и добавлял:
— Если бы не это наше головотяпство, скольких неприятностей можно было бы избежать!
А случилось, как, вероятно, помнит знакомый с судебной хроникой читатель, вот что: Алексей Венедиктович вынул из кармана бритву и раскрыл ее. Михаил Георгиевич — единственный, кто в этот момент стоял к Мякинину лицом — окриком привлек внимание полицейских, но было поздно. Рванувшиеся к нему Можайский и Чулицкий опоздали: Алексей Венедиктович широко размахнулся и перерезал себе горло.
13
К началу века медицинская наука шагнула далеко вперед — сравнительно с минувшими десятилетиями, — но спасти умиравшего с перерезанным горлом человека всё еще было непосильной задачей даже для самого хорошего врача и хирурга.
Михаил Георгиевич напрасно хлопотал над хрипевшим и захлебывавшимся собственной кровью Мякининым: две или три минуты спустя, злой, перепачканный, он вынужден был признать поражение.
Полицейские (Чулицкий и Можайский — в таких же залитых кровью сюртуке и кителе, как и сюртук Михаила Георгиевича) стояли мрачной, ошалевшей от произошедшего группой. Глядя на бесполезные усилия врача, они хранили, как принято выражаться, гробовое молчание, причем в данном конкретном случае этот эпитет приобрел до не смешного буквальный смысл. И только когда Михаил Георгиевич, до этого склонившийся над конвульсировавшим телом, выпрямился и отрицательно покачал головой, Чулицкий, грязно выругавшись, воскликнул:
— Да что же это такое?!
— М-да… Вот этого я не ожидал.
Улыбавшиеся, как и всегда, глаза Можайского производили сейчас особенно жуткое впечатление. Чулицкий содрогнулся.
— Может, кто-нибудь распорядится насчет тела?
Михаил Георгиевич задал вопрос как-то неожиданно буднично, но по всему было видно, что он обеспокоен и даже встревожен.
— Я — умываться. А потом…
Можайский в упор посмотрел на замолчавшего врача.
— А потом, Юрий Михайлович, я хотел бы получить некоторые объяснения. Вас, Михаил Фролович, это тоже касается.
Чулицкий вскинул голову, но посмотрел на доктора не тяжело в упор, а больше удивленно:
— А от меня-то вы что хотите услышать?
Теперь уже удивился Михаил Георгиевич:
— Но разве гимназист — не по вашей части?
Чулицкий побагровел, сделал шаг к доктору, потом от него, потом подошел к столу и с силой — внезапно и яростно — грохнул по нему кулаком. Удар был таким, что, подскочив, опрокинулись подсвечники с незажженными, к счастью, свечами. Одна из свечей переломилась пополам. Телефонный аппарат металлически лязгнул. От уже впитавшейся было в сукно лужи керосина пошел острый запах.
— Михаил Фролович… — Можайский поморщился, но непонятно от чего: от неприятного запаха или от выходившего за рамки приличий поступка Чулицкого. — Держите себя в руках. Мебель, как-никак, казенная!
На мгновение, буквально обомлев, Чулицкий замер, а потом, из красного сделавшись мертвенно-бледным, взорвался:
— Держать себя в руках? Держать себя в руках? Ну, вот что: с меня довольно! Ты, Можайский, перешел уже все границы! А я-то, Боже, какой дурак! Можайский поехал, Можайский приехал, Можайский подозревает, Можайский полагает! И что? Два — уже два! — трупа! На моих, Можайский, — не на твоих — руках! И надо же, какие пустяки: второй — с перерезанным на моих же глазах и чуть не при моем непосредственном участии горлом! Действительно: что тут такого? Сейчас его, труп этот, свезут в покойницкую, а мы, тем временем, чаю попьем! Послушаем Можайского, приятно скоротаем ночь… Да? Нет, черт тебя побери! И это… — Чулицкий с остервенением начал сдирать с себя перепачканный кровью Мякинина сюртук и, содрав, швырнул его в пристава. — Забери эту гадость! И хватит уже улыбаться! Ты слышишь? Хватит!
— Ну-ну, голубчик, — Михаил Георгиевич, подойдя к Чулицкому, приобнял его за плечи и усадил на стул. — Не стоит так переживать. Право, не стоит… Можайский!
Обернувшись к приставу, доктор кивнул на свой, все еще стоявший на полу возле тела Мякинина, красивый и явно дорогой медицинский чемоданчик. Можайский подхватил его и, раскрыв, подал Михаилу Георгиевичу кусочек хлопка и склянку с раствором нюхательной соли.
— Вот так, вот так, голубчик… — Нависая над Чулицким и тем самым не давая ему подняться со стула, Михаил Георгиевич смочил хлопок солью и быстро сунул его Чулицкому под нос.
Голова начальника сыскной полиции непроизвольно дернулась. С его лица немедленно спала мертвенная бледность, а приобретшие было синюшный оттенок губы вернули свой нормальный цвет.
— Не вставайте, Михаил Фролович, не вставайте: мы сами со всем распорядимся… А вы пока посидите. Минутку. Две… сколько нужно.
Чулицкий — скорее, инстинктивно, чем осознанно — предпринял все же попытку подняться со стула, но был остановлен:
— Не нужно, Михаил Фролович, не нужно… вот так: расслабьтесь и…
— Я… я… — Чулицкий смущенно посмотрел на Можайского. — Юрий Михайлович, кажется, я наговорил… немного… Вы уж извините меня.
Можайский отвел в сторону улыбающийся взгляд и, как это ни было удивительно и неожиданно, не менее смущенно ответил:
— Нет, нет, Михаил Фролович! Это вы меня извините. Ведь вы во всем правы, а я кругом виноват. Довела меня самоуверенность до этакой напасти! Решил, будь оно всё неладно, на эффект поиграть! И вот результат. — Можайский искренне и тяжело вздохнул. — А ведь всего-то и нужно было, там еще, в Плюссе, взять под стражу этого негодяя. А теперь…
— Ну, вот что, господа! — Доктор перебил Можайского решительно и резко. — Давайте-ка займемся приборкой. Убиваться по волосам будем потом: когда голову на место приладим. Что за институт благородных девиц, честное слово! Вы еще расшаркиваться тут начните! Ну-ка, эй!
Повинуясь окрику и жесту Михаила Георгиевича, к всеобщему изумлению, но и с всеобщего негласного согласия превратившегося вдруг, в тяжелейшей этой ситуации, в подлинного лидера, дежурный офицер и нижний чин, сбегавший куда-то за покрывалом и складными носилками, подхватили тело Мякинина, уложили его на носилки, прикрыли с головой покрывалом и вынесли прочь из кабинета. Чуть позже его забрали вызванные доктором по телефону санитары: в покойницкую полицейского дома — туда же, где уже лежало вскрытое и исследованное, насколько это было возможно при устроенной Можайским спешке, тело Мякинина-младшего.
Кровь с пола была замыта: вместе с ней исчез и сладковатый запах, до этого момента причудливо мешавшийся с запахами керосина, спирта и нашатыря. Можайскому из находившейся поблизости квартиры доставили чистый китель и пару сюртуков, в один из которых облачился уже вполне пришедший в себя Чулицкий, а в другой — Михаил Георгиевич, чей собственный сюртук также был безнадежно испорчен забрызгавшей его кровью.
Ранее растрепанные и поколоченные Гесс, Инихов и Любимов привели себя в божеский вид: только продолжавший распухать синяк под глазом Вадима Арнольдовича и не менее распухший нос Любимова отчаянно контрастировали с воцарившимся, в целом, в их обликах порядком. Михаил Георгиевич, снуя туда-сюда и оказываясь всюду, где требовалось немедленное руководство, обработал — между делом, можно сказать — исцарапанный лоб Чулицкого, наложил аккуратный pansementouate — пластырь, как стали говорить недавно — на нос поручика и, побренчав в кармане монетами, выдал одну из них Вадиму Арнольдовичу для приложения к глазнице.