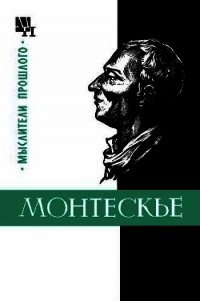Компромат на кардинала - Арсеньева Елена (первая книга .TXT) 📗
Глава 11
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
Скажи мне кто-нибудь прежде, что декабрь может быть именно таков, с солнцем и невянущими цветами, я бы в жизни не поверил. Эти погоды, этот климат внушает… сам не знаю что, какое чувство. Наверное, преклонение пред красотой. Рим, Рим, Рим… Какой божественный, легкий и солнечный здесь воздух. Знаю теперь: нигде мне не было и не будет так хорошо, как в Риме, остаться здесь навечно – значит навечно остаться молодым, красивым, вечно пребывать в этом ожидании счастья, которое, как известно, даже лучше счастья уже осуществленного.
Я готов ждать вечно! Я готов вечно ходить по улицам Вечного города и вглядываться в женские лица, надеясь увидеть то единственное, снова встретиться взглядом с теми глазами – темными и в то же время такими светлыми, чей взор опутывает, словно нежно звенящие нити…
Федор, эти строки тебе придется вымарать. Как думаешь, что скажет батюшка, когда прочтет их?! Эва, хватил: вчерашнего дня искать! Опамятуйся, друг мой.
Был нынче в храме Св. Петра. Меня поразили здешние свечи. Они более напоминают плошки. Их удобно ставить пред ликом святых. Но есть и другие свечи, напоминающие наши, русские. Они зовутся cerini – тонкие, длинные, после них на пальцах остается ощущение воска и его нежный запах, почему-то совершенно другой, чем у тех свечей, которые ставил я к образам дома. Я присел на большую скамью со спинкой как раз напротив надгробия Стюартов (работы Кановы) и наблюдал, как менялся с наступлением ночи храм. Уже настал час prima sera – так в Риме называют вечернюю пору от семи до девяти часов, уже тьма поползла меж колонн, а я все сидел и думал о том, что громада этого великолепного собора изначально должна была подавлять все вокруг, все прежние, античные развалины, подобно тому, как христианский мир подавил античный. Сам не ведаю, отчего меня бросает в дрожь лихорадочную, стоит лишь осознать: вот в этом тихом углу Форума, у источника нимфы Ютурны, поили своих лошадей Диоскуры! Помню, в Римской Кампанье я набрел на заросший тростником и травами узкий ручей – и замер, сообразив, что предо мной Альмоне, «кроткий Альмоне», как называл его Овидий. Все это место, со стоячими водами, с камышом, с могучими дубами священных рощ, раскинувшихся вокруг, казалось мне легендарным и чудесным. Мне даже слышались жалобы Персефоны, похищенной Аидом! В том же Форуме прочел надпись на передней стене алтаря – «Посвящается богам подземного царства» – и невольно поежился, словно воды Стикса начали медленно струиться перед ним, и все, что осталось в жизни, – это отдать Перевозчику последний обол… Думал я, что жизнь в те времена была проще, и два человека, мужчина и женщина, чьи пути вдруг пересеклись, могли приблизиться друг к другу, не будучи скованными путами, кои наложены на душу церковью и приличиями. Римлянки, говорят, даже поклонников своих могут видеть лишь мельком, встречаются по воскресеньям в храмах, на мессе, чтобы обменяться страстными взорами…
Впрочем, в те древние, непредставимые времена, о которых я мечтаю, каким образом житель далекой северной России мог бы очутиться в Риме? Чушь. Впрочем, у этого города есть таинственная способность все поглощать, все делать своим, сглаживая разницу между людьми и эпохами. От этого равно умиляешься изображениям Sacro Bambino 27 на руках Пречистой Девы – и развалинам Colosseo 28, кои я намерен посетить завтра же.
Равнозначны для души фрески на потолке Сикстинской капеллы и останки гробницы Цецилии Метеллы, красота которой трогает меня, сам не знаю почему, возможно, из-за невероятной благозвучности сего имени. Италианские женские имена прекрасны. Лючия, Лаура, Метильда, Беатриче, Леонтина, Симонетта, Джилья, Марианна… Сам не знаю, какое выбрал бы для…
Досидел в храме до того, что послышался звон ключей привратника, который весьма изумился, увидав меня. Все молящиеся и праздные посетители уже давно ушли, пусто было кругом. Неужто я ждал, что придет она? И непременно ради того, чтобы тайно встретиться со мною!
Глупец! Лучше поразмышляй о том, что древние скульпторы, оказывается, укладывали на своих статуях волосы Минервы восемнадцатью способами! Не успокоюсь, пока не зарисую в свой альбом их все.
Происшествие, нынче со мною случившееся, не могу иначе назвать, как произволением господним. Душою моею враз владеют и смятение пред игрою случая и страх, почти священный пред лицом Провидения, кое столь твердо и беспрекословно указало мне на бессмысленность и даже преступность моих тайных мечтаний. Примечательно, что случилось все тотчас после посещения Colosseo, словно и мои грезы не что иное, как жалкое подобие античных руин, отступивших пред натиском реальности иного свойства.
Итак, я был в Колизее. Пришел туда еще днем, укрывшись в верхнем уголке этих огромных развалин. Мне было отчетливо видно, как внизу, на арене, работали, что-то напевая, папские каторжники. Звон их цепей и пение птиц, свободных обитательниц Колизея, сливались в единый нестройный хор. Я слушал птичий щебет, смотрел на невольников – и воображение уносило меня в древние времена. Некогда здесь убивали друг друга гладиаторы на потеху властителям мира, сидевшим на трибунах, от которых ныне остались бесформенные развалины. Потом императоры предали мученической смерти тысячи христиан – все на той же арене. В память об этом папа Бенедикт XIV воздвиг вокруг нее четырнадцать маленьких ораторий с изображением страстей господних. Только благодаря этому Колизей не был окончательно и бесповоротно разрушен, и можно было сидеть в моем тихом уголке, испытывая величайшее наслаждение, какое только могут доставить человеку воспоминания о том, что вершилось с ним самим и человечеством вообще.
Я пробыл там до ночи, до тех минут, когда каторжников увели, а птицы забились в свои гнезда. Все замерло. Вскоре, впрочем, развалины вновь ожили: нищие, которые ютятся в развалинах днем и собирают подачки с посетителей, развели костер на месте былого торжища смерти, как раз посреди арены, и легкий ветерок затянул ее и нижние ряды амфитеатра дымом. Над ним мрачно вздымались темные стены Колизея, освещенные полной луной. Мало-помалу дым поднимался все выше и выше, словно некие призраки прошлого – бестелесные, невесомые… Наконец мне стало жутко, и я ушел через тот же пролом, сквозь который пробрался сюда днем.
Луна светила необычайно ярко! Я понял, что, не пройдя по Риму в полнолуние, нельзя представить себе, как он прекрасен. Все мелкое, суетное поглощено огромными, чередующимися волнами света и тени, – только грандиозное величаво открыто взору. Признаюсь, я тогда впервые подумал, что в гравюре есть нечто, что недоступно писанию краскою. Вспомнить хотя бы листы Пиранези… Различие, непримиримое противоречие черного и белого – словно невозможность встречи для навеки разлученных!
Очутившись неожиданно для себя на Пьяцца Навона, пустой в сей таинственный час, я думал об этой встрече, которая не сможет сбыться никогда. Не стоит пояснять, что площадь сия с некоторых пор – излюбленное мое место в Риме. Я сидел возле фонтана и видел высокого человека в коротком плаще, который, чуть пригнувшись и опасливо на меня оглянувшись, вдруг прошел мимо и скрылся в одном из переулков, впадающих в площадь, словно ручей – в озеро.
«Кто он? – подумал я, оцепенело, почти сонно следя за игрой лунного света в вечных струях фонтана. – Тать нощной, идущий на богопротивное дело? Или счастливый влюбленный, который сейчас встретится с владычицей своего сердца и сорвет с ее уст долгожданное признание, а может быть, и поцелуй?»
Мне хотелось думать так. Я был сейчас этим счастливым влюбленным, я уже простер руки, но тотчас уронил их со вздохом, объяв лишь пустоту…
27
Святого младенца (ит.) .
28
Колизея (ит.).