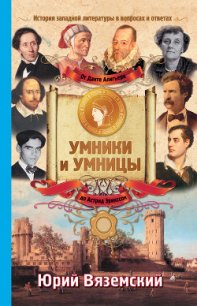Шерлок от литературы (СИ) - Михайлова Ольга Николаевна (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
— Он ненавидел он Гиппиус, похоже, не за похабщину, — усмехнулся я. — Просто она довела поэта чуть ли до слез. Когда Есенин, крестьянский самородок, приехал покорить Петербург, он сразу тщательно нарядившись, пошёл «на поклон» к Мережковским. Те приняли его более чем прохладно, а Гиппиус наставила на него лорнет и стала рассматривать его «крестьянский костюм». Обнаружив валенки, она удивлённо хмыкнула, поднесла к ним лорнет поближе и — громко одобрила их: «Какие на вас интересные гетры!» Все присутствующие покатились со смеха. И хотя Гиппиус написала потом несколько вполне доброжелательных статей о Есенине, что с нею случалось редко, «покоритель Петербурга» так и не простил ей злосчастных «гетр». В разговорах или письмах он не называл ее иначе, как «эта змея Гиппиус» или, в лучшем случае, «Гиппиусиха».
— Разумеется, Гиппиус сама любила рядиться и, конечно, видела ряженых насквозь, — согласился Литвинов. — Однако из этих, не на публику сказанных Мариенгофу есенинских слов надо всё-таки попытаться извлечь максимум смысла. Итак, Есенин — расчётлив и неглуп, кроме того — весьма артистичен. И, заметим, он оскорблён тем, что его стихи не так интересны публике, как похабщина, однако до конца играет перед публикой «деревенского самородка». И вот ещё одно воспоминание Мариенгофа: «Вдруг я увидел Шаляпина. Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца. Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шуршали языками: «Шаляпин». Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом: «Вот так слава!» И тогда, на Кузнецком Мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесёт свою жизнь» Вот тут прервёмся на минутку…
Перерыв Мишель использовал, чтобы найти среди бумаг пепельницу и сигареты. Потом, закурив, продолжил:
— Истинная философия состоит не в том, чтобы попирать славу ногами, а в том, чтобы не ставить в зависимости от неё своего счастья, даже стараясь стать достойным её. Пока мы живы, следует заниматься своим делом без суетного интереса к собственным успехам. Но в эти времена мыслили иначе. Есенин жаждет славы, тут Мариенгоф ни на минуту не ошибается, ибо сам честолюбив ничуть не меньше. Но вот вопрос: художник порой вынужден быть честолюбивым, ибо, чем шире его слава, тем шире распространяются его стихи, в этом случае слава — промоутер творчества. А есть иная ситуация, когда стихи пишутся затем, чтобы достичь славы и «стоять около автомобиля в очень хорошем костюме, очень мягкой шляпе и каких-то необычайных перчатках», да так, чтобы все вокруг шёпотом повторяли твоё имя. И тогда стихи — промоутер славы. Как было у Есенина?
— Не знаю, — чистосердечно сказал я, — не поймёшь.
— Я тоже пока не знаю, но, думаю, это проступит, — оптимистично промурлыкал Литвинов. — Но пойдём дальше. Рассказывая о Шаляпине, Мариенгоф приводит ещё один эпизод, весьма характерный. «Мы катались на автомобиле — Есенин, скульптор Сергей Коненков я. Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Фёдор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению. Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснушчатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно. Вечером Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо: «Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина. А?… Жениться, что ли?…» Думаю, не ошибусь, предположив, что «Есенин и Айседора Дункан» и «Есенин и внучка Толстого» вырастут потом из этого же корня.
Я только усмехнулся, но потом всё же спросил:
— Ты полагаешь все его браки — это браки по расчёту?
Литвинов задумался, но ненадолго.
— Сам Мариенгоф тут судит жёстко и твёрдо: «Есенин замечательно знал, чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу. Отсюда его огромное обаяние. Обычно — любят за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина». Он же о его любовных связях: «Это было его правило: на лёгкую любовь он был падок, но хоть в четыре или в пять утра, а являлся спать домой. Мы смеялись: «Бежит Вятка в своё стойло». Ни о какой серьёзной любви в жизни приятеля Мариенгоф не упоминает, а сам Есенин в одном из самых честных своих стихов говорит: «Ах, люблю я поэтов! Забавный народ. В них всегда нахожу я историю, сердцу знакомую, — как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорит о мирах, половой истекая истомою…» Тут стихи — промоутер постели.
Литвинов отложил в сторону книгу.
— Но оставим женщин, — продолжил он. — Это вне контекста нашего расследования. Итак, «Есенин никого не любил, но знал, чем расположить к себе». При этом кое в чём его можно оправдать. Поэт не знал родительской любви. С двух лет был отдан на воспитание в семью деда, мечтал, что родители заберут его к себе», но мать не спешила за сыном. Сергей не был ни долгожданным, ни любимым ребёнком. Презрение здоровой, полной сил и естественных желаний молодой красивой женщины к своему «квёлому» мужу, который к тому же редко бывал дома, перенеслось и на ребёнка. В раннем детстве Сергей воспринимал мать как чужую женщину. Горькой обидой вспоминал эпизод с саваном, когда мать с «живенько снующими пальцами» шила ему смертную одежду. Такие подростки обычно становятся вампирами в любви — не умея любить сами, они только поглощают чужую любовь.
— Так все его разводы, ты думаешь, из-за этого?
— Я ничего не думаю о его разводах, но похоже, он выпивал женщину, как бокал вина, и больше в ней не нуждался. Но женщины этого не понимали. Однако мы снова отвлеклись. Факт: поэт умел ладить с людьми. И вот примеры: «На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял комиссар. Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вёл разговор о преимуществе кольта над прямодушным наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор. Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург, спали на красном бархате и пили кавказское вино хозяина вагона…» И он же: «Сидим как-то в кабинете. Есенин в руках мнёт заказ — требовалась на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами что колики под ребро. Одного слова «имажинист» пугались, а не только что наших книг. Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И наконец, весьма хитро, в совершеннейший придя восторг от административного гения Малкина, восклицает: «А знаешь, Борис Фёдорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют!» От такого есенинского слова и без того добрейший Малкин добреет ещё больше. Глядишь — и подписан заказ на новое полугодие».
— Дипломат, — усмехнулся я.
— Дипломат, — согласился Литвинов. — Ласковое теля, умный мальчик. При этом в глубине души он, если вдуматься, скромен, негорделив и даже совестлив. Он склонен наблюдать, анализировать и изучать жизнь на расстоянии. Судя по ранним стихам и воспоминаниям, он аккуратен, оттачивает мастерство, приобретает опыт и компетентность осознанно и настойчиво. Есенин неугомонен и пытлив, любит короткие поездки, позволяющие набраться живых впечатлений. Его сила — в дотошном внимании к деталям и в тщательном исполнении. Сегодня его назвали бы перфекционистом. Он в юные годы дотошен, правдив и скрупулёзно честен в оценке самого себя. Могу даже сказать, что он недостаточно себя ценил. И тут новая странность. У него высокие эстетические критерии, и вкусы довольно утончённы. Грубость, нетактичность, вульгарность оскорбляют таких людей до глубины души. Заметим ещё, что в юности он коммуникабелен. Избегает любого проявления сильных эмоций, умеет дружить с самыми разными людьми, проявлять внимание и заботу. Сама тактичность и благоразумие. В лучших его стихах — единение личности, глубинных тайн подсознания и Вселенной. Размах нехилый. Явно интроспективный склад ума.