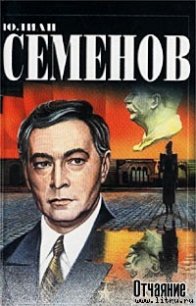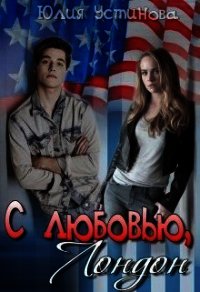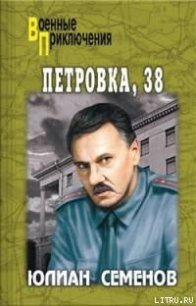Майор «Вихрь» - Семенов Юлиан Семенович (книги бесплатно txt) 📗
8. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДИССЕИ
— Дней через десять я был в тридцати километрах от Берлина, — рассказывал Степан Коле после очередного допроса. — Теперь я шел только с вечера до рассвета, а остальное время спал в кустарниках около озер, чтобы в случае чего уйти от собак. Хотя, правда, товарищи в лагере говорили, что вода от собак не помогает: фашисты пускают псов по обоим берегам и быстро засекают то место, где выходишь из воды. Но все равно я ложился спать в кустарниках рядом с берегом — так я чувствовал себя уверенней.
Он замолчал, словно бы всматриваясь в самого себя.
— Ну? — поторопил его Коля. — Дальше-то что?
— Я прошел сто шестьдесят километров за десять дней. Это был хороший результат. Если учесть, что шоколада мне, как спортсмену, не давали и приходилось грызть картофель или брюкву. Я понимал, что до Польши осталось не так уж много. Там есть партизаны, там я у своих. В то серое рассветное утро я забрался на ночь в одинокий сарай. Лил дождь со снегом, и я решил закопаться в сено на чердаке, а вечером спокойно двинуться дальше.
Сено было теплое. Оно пахло солнцем и летом. Я уснул так, как не спал уже много месяцев. Несколько раз я просыпался, слышал, как дождь монотонно и спокойно бьется о черепичную крышу, и засыпал снова. Дома я удивлялся, как это умудряется отец спать в троллейбусе или трамвае. Он садился в уголок, когда мы с ним ехали в гости к нашей тетке на Сельскохозяйственную выставку, поднимал воротник пальто, ставил рядом с собой костыль, опирался на него локтем и сразу же засыпал. Поначалу меня это злило, а потом стало смешить. Злило, когда я был мальчишкой. Мне казалось, что над отцом будут смеяться из-за того, что он спит в троллейбусе. Наверно, я здорово обижал отца своей снисходительностью. Я это понял, когда уходил в армию. Вернее, тогда я только догадался об этом, а понял значительно позже, в концлагере. И там же по-настоящему понял, отчего отец спал в троллейбусе даже в воскресные дни. Люди, уставшие за много лет, либо все время хотят спать, либо страдают жестокой бессонницей. «Театральный дождь, — думал я, глядя в темный потолок, — шумит куда правдоподобнее, чем этот, настоящий. Слишком уж благополучен сегодняшний мелкий осенний дождь. И ветер чересчур спокоен и ласков. Так можно позабыть все на свете. Если еще к тому же не болит живот и в кармане есть несколько картофелин».
Сырой картофель кажется противным только первое время. Если привыкнуть, то он становится даже приятным на вкус.
Я достал картофель и начал неторопливо жевать его, очистив от грязи рукавом пальто. Я жевал картофель и мучительно вспоминал, кто из ученых утверждал, что картофельная шкурка — суррогат калорийности. Верное утверждение, хотя звучит на первый взгляд смехотворно. Я заметил, что если съедаешь картофель чищеным, то все равно остаешься голоден, а вот стоит заставить себя слопать его вместе со шкурой, то даже одна картофелина может заменить домашний завтрак. По калорийности, во всяком случае.
Вообще, когда начинаешь думать даже о самых пустых вещах, то сон уходит. Я ругаю себя за то, что стал размышлять о картофеле и о калорийности шелухи. Надо было сжевать одну картофелину и постараться снова уснуть. Я не помню кто, но, кажется, Павлов утверждал, что каждый час сна до полуночи равен двум часам после двенадцати. Суворов ложился спать в восемь, а вставал в три часа утра и сразу садился за работу. Вот бы мне в спутники Александра Васильевича!
Я слышу женский голос. Сначала и прежде всего я слышу женский голос. Потом уже — тяжелую поступь коровы, стук ведер, быстрые шаги женщины, ее тихие и ласковые слова. Я слышу, как женщина похлопывает корову по крупу. Потом я слышу, как она, приговаривая по-прежнему тихо и ласково, начинает доить корову. Я слышу, как струйки горячего молока, пронзительно дзинькая, ударяются о стенки ведра.
Видно, я здорово обманываю себя с картофельной шелухой, с калорийностью и с ерундой насчет полезности дневного, утреннего и вечернего сна. Это все ерунда, когда говорят и думают о полезности. Вот я услыхал, как дзинькает горячее молоко о стенку ведра, и меня всего свернуло — от голода, и от боли в желудке, и от душной злобы истощенного человека. Наверное, я застонал, потому что дзиньканье молока прекратилось и женщина испуганно спросила:
— Фрицци?
«Сейчас сюда ввалится мордастый Фрицци, — думаю я, — и прощай тогда Польша!»
Я замер. Сколько же раз мне приходилось замирать во время побега! Сколько раз мне хотелось исчезнуть, стать маленьким или — еще лучше — совсем невидимым! Как же это унизительно для человека!
— Оэй, мамми! — слышу я детский голос. Ребенок кричит где-то далеко, по-видимому, метрах в пятидесяти.
Если это Фрицци, то все пока еще не так плохо, как мне казалось мгновение назад. Я слышу, как кто-то бежит сюда, к сараю. Слышу детское дыхание, смех и вопрос, которого я не понял. Женщина быстро ответила, мальчик убежал. Я снова слышу дзиньканье молока о стенку ведра. И ласковое пришептывание. У нас в лагере рядом со мной работал один ветеринар. Он расказывал, что в Германии изобрели приспособление: корову начинают доить электрической доил-кой, и сразу автоматически включается патефон, и музыка тихонько играет или женский голос что-нибудь ласковое нашептывает. Тогда коровы не волнуются и дают себя выдаивать электроприбором. Умная нация — немцы. Даже сентиментальность коров учитывают.
Женщина ушла. Корова внизу хрупает сеном и тяжело, по-человечески, вздыхает. Меня снова тянет ко сну, и — да здравствует Павлов! Суворов, конечно, тоже...
Я открываю глаза и вижу над собой лицо женщины. Она красива, хотя и не молода. Мне в лагере редко снились женщины. Да и остальным заключенным тоже: голодным редко снятся женщины. Чаще всего снится еда, но мы и во сне боролись с этим. Мы уговаривались смотреть только патриотические сны. Иначе расслабишься и станешь доходягой — тогда каюк.
Я отворачиваюсь, закрываю глаза и рукой отгоняю от себя видение. Моя рука натыкается на плечо: передо мной на коленях стоит женщина — не во сне. Наяву.
— Что?! — спрашиваю я.
Женщина начинает плакать.