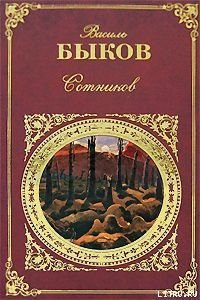Лугару (СИ) - Лобусова Ирина (хорошие книги бесплатные полностью .txt) 📗
К ее удивлению, лавочки перед воротами были пусты. Возможно, дворовые сплетницы попрятались от жары. А может, они вообще занимали свои места гораздо позже. Быстро пробежав двор, Зина поднялась на второй этаж и нажала кнопку звонка.
Было слышно, как в коридорах квартиры дребезжал мелодичный звонок. За дверью раздались шаги. Зина это отчетливо слышала. Это были сильные, уверенные мужские шаги, они приближались, у нее сладко замерло сердце. Неужели она успела влюбиться в Барга, если сердце ее так реагировало? Сложный вопрос…
Шаги стали слышны совсем близко. Зина нетерпеливо затарабанила в дверь костяшками пальцев…
Вот сейчас… сейчас Виктор откроет дверь! Шаги приблизились к двери вплотную. И вдруг замерли.
Ее просто поразила наступившая тишина. Она ничего не могла понять.
— Витя, открывай! Это я! — крикнула в дверь. — Да открой же…
Тишина. Никакой реакции. Виктор стоял за дверью — но не спешил открывать. В раздражении Зина снова нажала кнопку звонка. Снова — мелодичное дребезжание. Но теперь этот звук звучал для нее как-то болезненно.
Звук стих. Тишина. Затем — шорох, словно человек за дверью пошевелился, изменил положение тела, переступил с ноги на ногу — и снова замер. Замерла и она.
— Почему ты не открываешь? — грохнула Зина в дверь кулаком через мгновение. — Ты не хочешь меня видеть?
Из-за двери отчетливо послышалось взволнованное, хриплое дыхание. Кто-то по ту сторону дышал тяжело, с присвистом… Словно сдерживая что-то, пытаясь подавить какой-то звук.
И все рухнуло. Ощущение сладкого предвкушения вдруг сменилось животным ужасом. Это был тот самый ужас, который Зина уже испытывала в квартире той ужасной ночью. Ей стало настолько страшно, что она заледенела на месте. Стала медленно отступать от двери. Оттуда послышался хриплый всхлип…
Зина пулей слетела по лестнице, мгновенно пробежала двор, перескочила проезжую часть и остановилась напротив ворот, на противоположной стороне улицы. И едва не потеряла сознание: весело размахивая авоськой, в которой были покупки, шел… Барг. Это был Виктор собственной персоной! Судя по всему, ему было весело, он что-то мурлыкал себе под нос. Зину он ее не заметил, да и слава богу — эту встречу она бы не смогла выдержать. Развернувшись, Зина помчалась к себе домой.
ГЛАВА 12
Он лежал на полу каменного мешка без окон, спрятанного в толще стены, где единственным ориентиром времени были тяжелые шаги за кованой дверью. Этот ориентир появлялся только тогда, когда четкая картинка или ощущение доносили его до живого мозга. Солнечный луч на рассвете, томное золото заката, смена дня и ночи, холод утра, жара полдня — все это было время, которое можно было почувствовать и даже попытаться чего-то от него ждать. Важного или нет — не играло никакой роли.
Время жило в людских словах — злых, добрых, безразличных, завистливых, лживых, равнодушных,
участливых, жестоких… Во всех них было время. Когда кто-то говорил много слов, их можно было попытаться сосчитать, и в этом тоже было время, и это создавало иллюзию жизни.
Но где можно было взять время в каменном мешке, где не существовало ни картинок, ни слов, ничего, кроме стонов от никогда не прекращающейся боли? Вот это он знал точно: в ней времени нет. Все очень просто: боль растворяет время. Уничтожает его, стирает с лица земли. И ничего не остается, только боль, похожая на волчий оскал. Постепенно боль заменяет время, и тогда происходит настоящий переворот, словно бы стирающий границы пространства. Но понять это было гораздо сложней, чем просто раствориться в этой боли, попытаться стать ее частью.
Он лежал на каменном полу. Из его разбитых губ, сломанного носа сочилась вязкая, соленая кровь, на удивление, очень горячая. Но он не ощущал ни ее температуры, ни вкуса. Как не чувствовал и ледяного камня — стертых плит пола, ставших его единственным изголовьем. Оно позволяло просто тихо лежать, отдавшись лавинам горячей боли, плавая в раскаленном вареве собственного отчаяния и не приходящей вовремя смерти. Никто не прикасался к нему в переполненной камере, забитой людьми. Никто не пытался сдвинуть с места, четко зная одно — тех, кого притаскивали с допросов и бросали на пол, оставляя лежать так, нужно было не трогать хотя бы некоторое время. Дать им срастись с болевым шоком, потерять некую чувствительность, чтобы движение с места потом не убило их, не стало последней каплей.
Камера была забита людьми. Рядом с ним, едва не касаясь телом, лежал старик, бывший учитель истории. Его приволокли чуть раньше, и он все еще не пришел в сознание. Кто-то сердобольный подложил под голову старику какую-то мягкую тряпку, бывшую раньше чьим-то пиджаком или бушлатом. Это единственное, что можно было для него сделать. Старик даже не стонал, он полностью сжился с тем временем, которым теперь всегда была для него боль.
Со старика заживо сдирали кожу. Фрагментами на каждом допросе, да так хитро, чтобы он не умер раньше времени от болевого шока или от потери крови. На его руки, ноги и спину нельзя было смотреть. Кто-то предположил, что допрашивавший старика чекист раньше работал кожевенником, скорняком или мясником на рынке, с такой ловкостью он обращался с человеческой кожей. И это была не шутка.
Но не смотря на боль и ужас происходящего, периодически всплеск надежды обжигал каждого, кто находился в камере, как кипяток. Вот сейчас, хорошо, к вечеру двери распахнутся, их всех выпустят наружу, они вернутся домой, туда, где их ждут…
Этот всплеск надежды возвращал глазам ясность лучше любых глазных капель, мыслям — свежесть и бодрость, вырывая из боли хоть на мгновение.
Но так длилось недолго. Завтра все начиналось сначала. По новой волне, в новом кругу ада, который по жестокости настолько превосходил ад Данте, что выдумка великого флорентийца казалась детской игрушкой.
Что такого страшного мог совершить этот старик, с которого сдирали кожу? Что совершили они, те, кому дробили пальцы в железных тисках, выдирали ногти, делали все то, что он увидел и узнал позже, до того момента даже не представляя, что может делать человек.
Он прекрасно помнил свой первый допрос, когда его завели в кабинет, и он увидел троих. Двое — взрослые, солидные мужчины в форме НКВД, сидели за столом, а третий, помоложе, — в углу за отдельным столиком. Там стояла печатная машинка и он явно собирался записывать допрос. Но это не внушало тревоги, ведь запись допроса была распространенной практикой в юриспруденции.
Он был полон призрачных надежд. Теперь, после того, как его продержали четверо суток почти без еды в ледяной камере без окон, такой узкой, что лежать в ней было нельзя, только сидеть, да и то с трудом, он рассчитывал узнать, за что его арестовали.
Какие обвинения ему намерены предъявить, если его сняли прямо с поезда, зная, по какой железной броне он едет в важную командировку.
Он верил в то, что это недоразумение, и всё разрешится быстро и скоро. Вот сейчас всё выяснится, и он сможет вернуться к своим привычным делам… Позже он узнал, что в это верил каждый, кто переступал порог застенков. Свято верил…
Но, конечно, они были другими. А у него была важная командировка! Секретная миссия — куда уж секретней! С такой броней, что его не только не могли тронуть, но даже косо посмотреть в его сторону! А потому он переступил порог кабинета, преисполненный надежд. С белой стены в строгой раме из черного дерева на него смотрел неулыбающийся Дзержинский — строго, с подозрением, словно зная все и заставляя признаться во всем. Он усмехнулся про себя — прокололся, Железный Феликс! Ошибочка вышла. Это перед ним станут признаваться… Вот все выяснится, прямо сейчас.
Был, правда, один неприятный момент. Прежде чем поместить в ужасную камеру, его почти полностью раздели, оставив только нижнее белье и носки. Это сразу вызвало из памяти неприятную ассоциацию — ведь раздевали всегда тех, кто уже почти осужден, кто уже гарантированно не выйдет из тюрьмы. Но может, успокаивал себя сам, просто сейчас у них такие правила, новые. И вещи ему вернут, когда все выяснится.