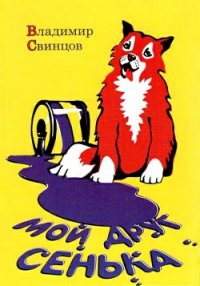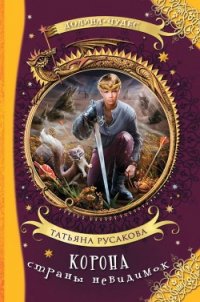Любовник смерти - Акунин Борис (серии книг читать онлайн бесплатно полностью txt) 📗
В коляске сидел сам судья Кувшинников, Ипполит Иванович. Сенька его сразу признал.
Ванька из окна высунулся, да как закричит:
– Привёз? Привёз?
Судья засмеялся, на землю слез. Привёз, говорит. Неужто не видишь. Как, говорит, звать её будем?
И только теперь Сенька разглядел, что к коляске сзади жеребёнок привязан, рыжий, с круглыми боками. Даже не жеребёнок, а вроде как взрослая лошадь, но только маленькая, не многим боле козы.
Ванька давай верещать: «Пони! У меня будет настоящий пони!» А Сенька повернулся и побрёл себе обратно к Калужской заставе. Савраску деревянную оставил в траве у обочины, пускай пасётся. Ваньке не нужна – может, другому какому ребятёнку сгодится.
Пока шёл, мечтал, как пройдёт сколько-то времени, вся Сенькина жизнь чудесно переменится, и приедет он сюда снова, в сияющей карете. Вынесет лакей карточку с золотыми буквами, на которой про Сеньку всё в лучшем виде прописано, и эта барышня, со стёклышками, скажет Ванятке: мол, Иван Трифонович, к вам братец пожаловали, с визитом. А на Сеньке костюм шевиотовый, гамаши на пуговках и палочка с костяным набалдашником.
Дотащился до дому уже затемно. Лучше б вовсе не возвращался – сразу сбежал.
Дядька Зот Ларионыч прямо с порога так звезданул, что искры из глаз, и зуб передний высадил, через который теперь плевать удобно. После, когда Сенька упал, Зот Ларионыч его ещё ногами по рёбрам охаживал и приговаривал: это цветочки, ягодки впереди. В полицию, кричал, на тебя нажаловался, господину околоточному заявлению отписал. За воровство в тюрьму пойдёшь, кур-вин сын, там тебе ума пропишут. И ещё грозился-лаялся по-всякому.
Ну Скорик и сбежал. Когда дядька, руками-ногами махать умаявшись, стал со стены коромысло снимать, на чем бабы воду носят, дунул Сенька из сеней, сплёвывая кровянку и размазывая по роже слезы.
Ночь протрясся от холода на Сухаревском рынке, под возом сена. Страсть до чего жалко себя было, ребра ныли, морда побитая болела и ещё очень жрать хотелось. Полтинник, что от кобылы остался, Сенька ещё вчера проел и теперь у него в кармане, как в присказке, обретались голый в бане, вошь на аркане, да с полбанки дыр от баранки.
На рассвете ушёл с Сухаревки, от греха подальше. Коли Зот Ларионыч в околоток ябеду накатал, зацапает Сеньку первый же городовой и в кутузку, а оттуда нескоро выйдешь. Надо было подаваться туда, где Скорикова личность не примелькалась.
Пошёл на другой рынок, что на Старой-Новой площади, под Китайгородской стеной. Тёрся близ обжорного ряда, вдыхал носом запах печева, глазами постреливал – не зазевается ли какая из торговок. Но стянуть робел – все же никогда вот так, в открытую не воровал. А ну как поймают? Утопчут ногами так, что Зот Ларионыч родной мамушкой покажется.
Бродил по рынку, от улицы Солянки держался в стороне. Знал, что там, за нею, Хитровка, самое страшное на Москве место. На Сухаревке, конечно, тоже фармазонщиков и щипачей полно, только куда им до хитровских. Вот где, рассказывали, жуть-то. Кто чужой сунься – враз догола разденут, и ещё скажи спасибо, если живой ноги унесёшь. Ночлежки там страшенные, с подвалами и подземными схронами. И каторжники там беглые, и душегубы, и просто пьянь-рвань всякая. Ещё говорили, если какие из недоростков туда забредут, с концами пропадают. Будто бы есть там такие люди особые, хапуны называются. Хапуны эти мальчишек, которые без провожатых, отлавливают и по пяти рублей жидам с татарами в тайные дома на разврат продают.
Потом-то оказалось – брехня это. То есть про ночлежки и рвань правда, а хапунов никаких на Хитровке нету. Когда Сенька своим новым братанам про хапунов брякнул, то-то смеху было. Проха сказал, кто из пацанов желает лёгкую деньгу сшибить – это заради Бога, а насильно мальцов поганить ни-ни, Обчество такого не дозволяет. Прирезать по ночному времени – это запросто. Спьяну или если какой баклан сдуру залетит. Недавно вот нашли в Подкопаевском одного: башка всмятку, пальцы прямо с перстнями поотрезаны и глаза выколоты. Сам виноват. Не лезь, куда не звали. На то и кот, чтоб мыши не жирели.
Зачем глаза-то колоть? – испугался Сенька.
А Михейка Филин смеётся: поди, спроси у тех, кто колол.
Но разговор этот уже после был, когда Сенька сам хитрованцем сделался.
Быстро все вышло и просто – можно сказать, чихнуть не успел.
Примеривался Скорик, в сбитенном ряду, чего бы утырить, храбрости набирался, а тут вдруг шум, гам, крик. Баба какая-то орёт. Караул, мол, обокрали, кошель вынули, держи воров! И двое пацанов, Сенькиных примерно лет, несутся прямо по прилавкам, только миски да кружки из-под сапог разлетаются. Одного, который пониже, сбитенщица ручищей за пояс схватила, да на землю и сдёрнула. Попался, кричит, волчина! Ну ужо будет тебе! А второй воренок, востроносый, с лотка спрыгнул, и тётке этой рраз кулаком в ухо. Она сомлела и набок – брык (у Прохи завсегда при себе свинчатка, это Сенька потом узнал). Востроносый дёрнул второго за руку, дальше бежать, но к ним уже со всех четырех сторон подступались. За сбитенщицу ушибленную, наверно, до смерти бы обоих уходили, если б не Скорик.
Как Сенька заорёт:
– Православные! Кто рупь серебряный обронил? Ну, к нему и кинулись: я, я! А он меж протянутых рук проскользнул и ворятам, на бегу:
– Что зявитесь? Ноги!
Они за ним припустили, а когда Сенька подле подворотни замешкался, обогнали и рукой махнули – за нами, мол, давай.
В тихом месте отдышались, поручкались. Михейка Филин (тот, что поменьше и пощекастей) спросил: ты чей, откуда?
Сенька в ответ:
– Сухаревский.
Второй, что Прохой назвался, оскалился, будто смешное услыхал. А чего, говорит, тебе на Сухаревке не сиделось?
Сенька молча сплюнул через выбитый зуб – не успел тогда ещё с обновой обвыкнуться, но все равно аршина на три, не меньше.
Сказал скупо:
– Нельзя мне там больше. Не то в тюрьму.
Пацаны поглядели на Скорика уважительно. Проха по плечу хлопнул. Аида, говорит, с нами жить. Не робей, с Хитровки выдачи нет.
Как Сенька обживался на новом месте
С пацанами, значит, жили так.
Днём ходили тырить, ночью – бомбить.
Тырили все больше на той же Старой площади, где рынок, или на Маросейке, где торговые лавки, или на Варварке, у прохожих, иногда на Ильинке, где богатые купцы и биржевые маклеры, но дальше ни-ни. Проха, старшой, называл это «в одном дёре от Хитровки» – в смысле, чтоб в случае чего можно было дёрнуть до хитровских подворотен и закоулков, где тырщиков хрен поймаешь.
Тырить Сенька научился быстро. Дело лёгкое, весёлое.
Михейка Филин «карася» высматривал – человека пораззявистей – и проверял, при деньгах ли. Такая у него, у Филина, работа была. Пройдёт близёхонько, потрётся и башкой знак подаёт: есть, мол, лопатник, можно. Сам никогда не щипал – таланта у него такого в пальцах не было.
Дальше Скорик вступал. Его забота, чтоб «карась» рот разинул и про карманы позабыл. На то разные заходцы имеются. Можно с Филиным драку затеять, народ на это поглазеть любит. Можно взять и посередь мостовой на руках пройтись, потешно дрыгая ногами (это Сенька сызмальства умел). А самое простое – свалиться «карасю» под ноги, будто в падучей, и заорать: «Лихо мне, дяденька (или тётенька, это уж по обстоятельствам). Помираю!» Тут, если человек сердобольный, непременно остановится посмотреть, как паренька корчит; а если даже сухарь попался и дальше себе пойдёт, так все равно оглянется – любопытно же. Прохе только того и надо. Чик-чирик, готово. Были денежки ваши, стали наши.
Бомбить Сеньке нравилось меньше. Можно сказать, совсем не нравилось. Вечером, опять-таки где-нибудь поближе к Хитровке, высматривали одинокого «бобра» (это как «карась», только выпимши). Тут опять Проха главный. Подлетал сзади и с размаху кулаком в висок, а в кулаке свинчатка. Как свалится «бобёр», Скорик с Филином с двух сторон кидались: деньги брали, часы, ещё там чего, ну и пиджак-штиблеты тоже сдёргивали, коли стоющие. Если же «бобёр» от свинчатки не падал, то с таким бугаиной не вязались: Проха сразу улепётывал, а Скорик с Филином и вовсе из подворотни носу не совали.