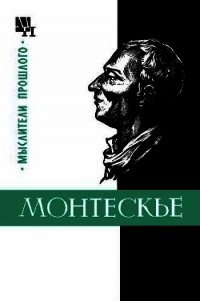Компромат на кардинала - Арсеньева Елена (первая книга .TXT) 📗
Серджио заметно передернулся и неприветливо взглянул на вошедшего монсеньора лет двадцати пяти. Держался он con gran pompa e maesta 37, но по сравнению с великодушной простотою отца Филиппо это выглядело смешно.
– Ты, как всегда, преувеличиваешь, Джироламо, – заметил хозяин, представляя нам еще одного своего духовного сына и воспитанника, синьора Маскерони.
– Все эти россказни о папессе Иоанне не что иное, как бред, позорящий святую церковь, – снова начал синьор Джироламо, окидывая меня своим мрачным взором с таким видом, словно это именно я распространял упомянутые россказни.
– О мой дорогой, – засмеялся отец Филиппо, – общеизвестно, что один святой, уж не припомню, кто именно, был возведен в сей ранг потому, что, придя как-то к одному обжоре – а дело, надобно сказать, было в пятницу, в постный день, – увидел на столе жареных жаворонков и тотчас же возвратил им жизнь: они вылетели в окошко, и согрешить оказалось невозможным. Другой святой был причислен к лику праведных за то, что превратил каплуна в карпа. Возможно, ты полагаешь, что и эти истории чернят святой престол?
Джироламо пробормотал что-то, очень напоминающее согласие.
– Успокойся, сын мой, – ласково сказал отец Филиппо. – Вспомни лучше иудея Абрама, описанного нечестивцем Боккаччо в его «Декамероне». Сей Абрам поехал в Рим, чтобы решить, чья вера лучше: иудейская или христианская? Его приятель, пытавшийся обратить его в истинную веру Христову, размышлял: «Если он только поглядит на римский двор, то христианином ему не быть!» И вот Абрам воротился домой. На вопрос, понравилась ли ему вера христианская, он решительно ответил: «Совсем не понравилась! Рим показался мне горнилом адских козней, а не богоугодных дел. Однако вера ваша все шире распространяется и все призывнее сияет, а значит, оплотом ее и опорой является дух святой, то есть эта вера истиннее и святее всякой другой. Вот почему я решил немедленно сделаться христианином!» Нет ничего в мире, что ни делалось бы по промыслу господню, и если ему зачем-то понадобилось посадить на наш престол Иоанну – не нам размышлять об этом!
Серджио и Джироламо слушали его со вниманием. Именно тогда, исподтишка наблюдая за ними, я и обратил внимание на этот характерный разрез глаз, делающих всех троих моих новых знакомых чем-то неуловимо похожими, хотя более несхожих людей, чем Джироламо и Серджио, невозможно было представить. Один – живая красота юности, освещенной счастьем. Другой – одно сплошное желание задернуть все шторы и занавеси, повешенные на всех в мире окнах, чтобы заслонить путь солнечному свету. Они оба были как свет и тень, между которыми художник провел резкую грань: отца Филиппо, который взирал на того и другого с одинаковой любовью и дружелюбием.
Вообще Джироламо с первого взгляда почему-то показался мне поразительно похожим на тициановский портрет Ипполита Риминальди, который я успел мельком увидеть во Флоренции и отчего-то никак не мог забыть: с этой его опасной, жесткой, курчавой бородкой, обвивающей челюсти и оставляющей голым пространство ниже губ, и с этими тонкими, тщательно подбритыми усиками. Особенно пугающее впечатление произвел на меня завиток черных, жестких волос на лбу, словно краткое слово угрозы.
Он весь был такой, Джироламо: мрачная угроза. И если Серджио сторонился его взора, то Джироламо почти не сводил с него своих недобрых глаз.
Отца Филиппо их взаимная неприязнь явно забавляла. Он обратился ко мне своим мягким голосом:
– Возможно, вы уже успели заметить, что всякий молодой итальянец является рабом той страсти, которая владеет им в данный миг? Он ею всецело поглощен. Кроме врага, к которому он пылает ненавистью, или возлюбленной, которую он обожает, он никого не видит и порою забывает о простейших приличиях.
Насмешка была слишком откровенной, чтобы ее можно было не заметить. Серджио покраснел, как маков цвет, сразу сделавшись еще моложе, а Джироламо дернул уголком губ и своим черным, тусклым голосом изрек:
– У молодых итальянцев есть еще одна страсть – любовь к господу. Правда, не все одержимы набожностью, некоторые обращаются к богу лишь с просьбами в минуты высшего отчаяния, забывая его в другое время. Это напоминает мне отношение к богу неаполитанцев: когда Везувий угрожает им опасностью, они украшают изображения святых, со страстной мольбой преклоняют пред ними колена; но гроза надвигается, извержение приближается, и они с негодованием срывают свои украшения со статуй святых, с проклятиями бросают в них камни, глумятся над ними!
Речь его стала все более неровна и прерывиста, выражение лица сделалось страстным и страшным.
«Это фанатик, – подумал я. – Как может добрейший, снисходительный отец Филиппо терпеть рядом с собой такое отвратительное существо?»
Я не мог больше смотреть на Джироламо. Отвел глаза – и вдруг увидел то, чего не замечал прежде: правую руку он во время своих пылких речей стиснул в кулак, и я отчетливо увидел, что костяшки его пальцев содраны до кровавой коросты. Кое-где она начала подживать, а кое-где еще оставалась. То же самое было на моей правой руке – с той самой ночи, когда кулак мой с силой встретился с кулаком человека, напавшего на Серджио!
Я невольно посмотрел на свою руку, и Джироламо заметил это. Осекся.
В ту же минуту отворилась дверь и заглянул служка, с каким-то делом к отцу Филиппо. Серджио подскочил с таким видимым облегчением, что хозяин не стал его задерживать и отпустил с ласковой улыбкой, осенив благословением и дав на прощание поцеловать свой перстень. То же ожидало и меня.
Серджио выскочил вон, я последовал примеру своего друга, однако на прощание не удержался: с вызовом посмотрел на Джироламо. Ужасен был ответный взгляд его темных глаз: точно гвоздь забил он мне в лоб! Однако смотрел он тоже с вызовом, как бы признав правоту моей догадки.
Я ничего не сказал Серджио. Лучше было бы поговорить с отцом Филиппо, однако как я могу испросить у него аудиенции? И хорошо ли это будет с моей стороны: раскрыть этому святому человеку глаза на непримиримую вражду, которая снедает и разделяет двух самых близких и дорогих ему людей? Впрочем, более всего останавливает меня мысль, что я ошибся и руку свою поганец Джироламо раскровянил в другом месте, без моей подмоги.
Ну и очень жаль, когда так!
Глава 20
КОНТР-ПРОМЕНАД
Россия, Нижний Новгород, октябрь 2000 года
Всю жизнь, сколько себя помнила, Тоня слышала, что очень похожа на мать. Та была видная, красивая, высокая женщина с темно-русыми волосами, заплетенными в тяжелую косу и закрученными в тяжелый узел на затылке. Благородный лоб, лукавый носик и выразительные темно-серые, в нарядных ресницах глаза были неотразимы. «Какая у тебя красивая мама!» – слышала Тоня завистливый девчоночий шепоток с самого детства. И страстно хотела услышать: «И как ты на нее похожа!» Однако о сходстве говорили всегда как бы с недовольным поджатием губ… Мама же любила усадить дочку рядом с собой перед зеркалом и внимательнейшим образом начать сравнивать их носы, глаза, лбы, губы и уши, приговаривая при этом: «Ты моя, совершенно моя деточка, ну ни одной, ни единой черты в тебе нету этого поганца! И в школе ты так же учишься, как я, – начала плоховато, а заканчиваешь чуть ли не медалисткой, и мальчики за тобой табуном ходят, а ты их сторонишься, гордая, умница моя, и почерк у тебя такой же, будто курица лапой…» Тут мама с дочкой начинали хохотать, счастливые своей взаимной любовью.
Смеялись они тоже одинаково – заливисто и заразительно. Правда, иной раз Тоне становилось обидно: хоть бы одну-разъединую черту найти в себе от человека, бывшего ее отцом. Нет, ну правда: женщина не может родить ребенка без мужчины! Значит, должен от него остаться какой-то след! Пока же все, что она об отце знала, – это его имя. Его звали Никитой: в Тонином свидетельстве о рождении было написано, что она – Антонина Никитична. Отчество свое она терпеть не могла – старорежимное какое-то, да еще и в сочетании с таким же старорежимным именем. Тоня – еще туда-сюда, а уж Антонина… «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя». Эта строчка из дурацкой песенки приходила на ум всем подряд, с кем Тоня только не знакомилась. Кошмар!
37
С большой пышностью и величием (ит.) .