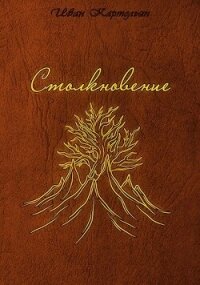Чудо, тайна и авторитет - Звонцова Екатерина (читать книги без .TXT, .FB2) 📗
Граф вытащил какие-то листы и принялся удовлетворенно разглядывать. Но тут и призрак, подскочив, опять зарычал, довольно грубо поднял К. за подмышки — и таща его, как пойманного кота, принялся отступать к окну. Под ногами хлюпало теплое, красное…
— Хватит с вас, хватит, — бормотал он, а цепи вторили ему возмущенным дребезгом. — И с меня хватит, мое дело сделано, я умываю руки! Домой, домой…
Все прежние картинки, звуки, ощущения таяли; сознание ускользало — но К. поймал мгновение, в которое снова оказался в кровавой, гулкой толще. Она, соленая и чуждая, куда-то летела, размывая предметы и фигуры, давя и снаружи, и изнутри, рокоча, — но с собой забирала боль, успокаивала руку. Приходило какое-то осоловелое спокойствие. Усталость. И даже почти равнодушие. Большому кораблю… скорее бы…
— Что… я… — промямлил он, осознав, что просто лежит на боку в этой движущейся толще, а призрак — мутное подобие медузы, все более расплывающееся с каждым мгновением, — витает над ним. Четкими в мареве оставались лишь цепи.
— Многовато заплатили: это, наверное, я сам не рассчитал-с, простите меня. — Призрака было плохо слышно; интонация казалась непонятной — не то огорчение, не то раздражение. Глаза горели васильковыми угольками. — Иван Фомич… — все же огорчение, а теперь и некоторая вина. — Дышите, нужно вас вернуть, ну а дальше вы как-нибудь сами…
— А вы?! — Последние слова он, благо, понял и попытался даже приподняться, потянуться. — Нет, нет! Мне нужно туда снова, давайте лучше вернемся, мне…
Мне бы его убить. Или сгинуть. Мысль не страшила. Больше не страшило ничего.
— Вернемся — и что? — Призрак наклонился, уперев пухлые руки в колени, с почти ласковым сочувствием воспитателя, наблюдающего за резвящимся в грязи малышом. — Вы там умрете? От вот этого ритуала или просто от потрясения? Нет-с, — словно пошли от вздоха пузырьки воздуха, — дорожки наши с вами здесь разойдутся; моя юрисдикция кончается, но знайте… — он помедлил, — я ратую за успех вашего предприятия, если оно будет… будет же?
Глаза опять стали цепкими и строгими, налились тьмой. И К., хотя в первую секунду порывался сразу кивнуть, замялся. Для такого кивка нужно было больше сил.
— У вас очень коварный враг, коварный потому, что убежден в своем праве, с такими всегда труднее всего… — продолжил призрак, покачав головой. — Таков его скользкий мирок: даже не «Бога нет, и все дозволено», скорее «Бог, наверное, есть, но человек он умный, а с умным человеком и поговорить приятно…». Такие всех умеют запутать; против таких сложно искать союзников; таких в одиночку…
К. подумал об R. и вспомнил вдруг их горький диалог после вернисажа.
«Это грязный дом, и я не стану выставлять перед вами в дурном свете ваших друзей. Я боюсь, это многое может порушить».
Слова обретали все больше смысла — как и наглое бесстрашие графа. R. боялся не только ранить чувства D., но и того, что его за попытки очернить дядю отправят на лечение. R. также прекрасно понимал, что в случае проигрыша подвергнет рискам всякого сыщика и покровителя, который пожелает ему помочь. Был у R. и повод опасаться выигрыша: наверняка он помнил и о графине, которую разоблачение брата уничтожит, и о Lize, на которую ляжет позор. Он ведь не знал, как способствовала последняя всей этой истории; не знал ни о пилюлях, ни о том, как позже она упивалась его унижением… Так звать ли его в союзники? А если не его, то кого?
— Любезнейший, — окликнул призрак, но глаза сами собой закрылись.
— Я очень… устал, — прошептал К., сжимаясь в багровом небытие.
Ему вспомнилась фигурка с последней картины Змеиного триптиха — та самая, с выступающим хребтом. Какой-то несчастный на блестящей чешуе, сброшенной в насмешливом триумфе; прежде в несчастном этом ясно виделся D., но теперь…
— Понимаю-с, понимаю-с… — Голос призрака стал удаляться. — И мне жаль, правда, что я оставляю вас в тупике, но, право, я подумаю, похлопочу, позабочусь… Прощайте-с…
Между фразами повисали всё бóльшие паузы, а сил удерживать спутника, кричать, хватать не было совсем. К. остался лежать, машинально прижимая к груди распоротую руку и все глубже погружаясь в забытье. Толща качнулась. Сомкнулась в последний раз, особенно плотно. Она продолжала двигаться. Было неважно куда.
Воздух закончился вовсе. Затих голос призрака; остался лишь смутный звон цепей, похожий скорее на отчаянное «Ау-у». И в почти полной тишине обещание его наконец предстало таким, каким, скорее всего, и было, — пустым, формальным, чиновничьим.
Чиновникам — большинству — нет особого дела до тех, кто копошится на земле. Что еще породило бы Осу; что еще искалечило бы героев его статей; почему еще столь многие обыватели обходят стороной полицию, не поверяя ей беды, а преступники ее не боятся? Это чиновники из плоти и крови… О чем же может подумать, похлопотать, позаботиться тот, кто, похоже, умер не один десяток лет назад и не был допущен в рай?
Но и это не имело значения. К. больше не смог сделать ни вдоха и рухнул в сон.
Совиный дом
— Деточек, значит, защищаете… — пробормотал граф, метнув на Ивана очередной цепкий взгляд. — А так ведь и не скажешь, что в груди этой — рыцарское сердце.
— Не рыцарское, — смутился Иван.
Он не знал, куда деться, но ему тут же строго велели:
— Подбородок не опускайте. Вы хорошо сейчас сидите.
Они были друг против друга, в креслах у камина; разделял их журнальный столик с графином вишневой наливки и двумя рюмками, наполненными ею же. Наливка маняще мерцала в граненом хрустале; от нее тянуло терпкой летней сладостью, но Иван в последние минут десять почти не позволял себе лишних движений; да что там — дышать старался пореже. Граф рисовал его, сосредоточенно переносил черты на бумагу. Соблазн — посмотреть, что получается, — свербел в мышцах рук и ног; одно ведь пружинистое движение вперед — и можно увидеть. По скрипу грифеля ничего не поймешь.
— Рыцарское все же. — Граф опять опустил глаза. Тяжелые веки казались сомкнутыми, но Иван знал: это только иллюзия от слишком густых, бросающих длинную тень ресниц. Такие же были и у графини, и у D., не приходящегося близнецам родней, — только Lize не достались. — Рыцарское, потому что в нынешнем мире перо газетчика бывает сильнее шпаги. Чем больше люди плодят букв, а особенно таких, тем сильнее эти буквы над ними самими властны. Строчками уже можно убить. И спасти можно. Думаю, и дуэли все у нас скоро будут только словесными; мы уже идем к этому — вспомните хоть вечную полемику критиков вокруг литераторов…
— Может быть, — осторожно сказал Иван и ухватил рюмку за тонкую витую ножку.
Граф, поймав его на этом, рассмеялся.
— Вы, мой друг, ну совсем как Андрей. Люблю, знаете, порисовать его; все-таки изумительный ребенок, но модель неудобная. Даже если вдруг упросишь его, посадишь — как вас сейчас, — все равно хоть в глазах оно будет — беспокойство, мысленное бегство, презрение к тому, кто бубнит: «Сиди, не крутись…» — Он, заметив виноватый вид Ивана, усмехнулся шире. — Да пейте, пейте. Никуда же вы не денетесь!
Иван сделал глоток; граф, отложив карандаш, — тоже. Все это время он продолжал смотреть, пристально и задумчиво, будто и теперь рисовал что-то глубоко в мыслях.
— Интересно мне было бы попробовать, будь у меня достаточная фантазия, — начал он вдруг, облизнув губы, — изобразить ребенком и вас тоже. Ну, каким вы были лет в десять; убежден, что совершенно очаровательным сорванцом.
— Точно очаровательнее, чем сейчас, — уверил Иван. — Вы сами знаете мои финансы; это не жалоба, а бич русского студенчества, однако я и сам удивляюсь, где наел эти щеки…
— Не на наших яствах: вы маловато с нами садитесь за стол, даже если приходите в гости! — покачал головой граф и принялся за рисунок снова. — И не нужно так; я как художник в красоте понимаю и вот что вам скажу: она не статична. Не сами щеки красивы, но как на них играет краска; не сами глаза, но как они глядят; не сама фигура, но ее движения, и все это нужно еще сложить в корзину, как яблоки в математической задаче. В доме моем все, абсолютно все по-своему красивы — что Сытопьянов с его синеватым носом, что Петуховский с его оглоблями-ногами, и это не говоря уже о друзьях и родных. Вы в том числе…