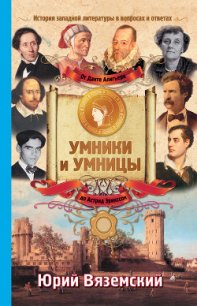Шерлок от литературы (СИ) - Михайлова Ольга Николаевна (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
— Ты считаешь, что коммунизм — трагедией?
— Трагедия — это мои ровеснички кричат про совок и тупых комуняк, а спроси, чего хотят они сами, тебе начинают цитировать программу РСДРП 1903 года, причём дословно.
— Понятно, — протянул я. — А что ищешь?
— Бога, разумеется, — ответил Мишель так, словно ответ подразумевался сам собой. Потом неожиданно добавил, задумчиво и сентенциозно. — Бог вездесущ. Не потому ли его так трудно найти?
Узнав, что я снимаю комнатушку на Малой Балканской за Дунайским проспектом, Литвинов осуждающе покачал головой, пробормотав, что это же почти в Шушарах, откровенно критикуя даль, в которую я забрался. Потом предложил поселиться рядом с ним: наверху, на мансарде, сдаётся комната. Я с сожалением развёл руками, ибо обременять отца не хотел, а со стипендии не разгуляешься. Но стоимость квартирки, к моему немалому удивлению, оказалась совсем мизерной. Ванны там не было, к тому же, крыша, по словам Литвинова, протекала. Зато рядом с университетом. Я неожиданно быстро решился: я экономил массу времени на проезде и, что скрывать, привлекла возможность поселиться рядом с Михаилом. Я устал от разговоров с самим собой, а с ним было приятно поболтать. Это ли не самый большой секрет для маленькой компании?
Вот так и вышло, что уже к пятому сентября я квартировал в центре города, причём вечера неизменно проводил с Литвиновым, быстро поняв, что ему почти так же, как и мне, необходим собеседник. Мы подошли друг другу, и, несмотря на наши препирательства и споры, моя напряжённость начала медленно перетекать в безмятежность, дурные сны с предгорий Гиндукуша тоже кончились. Литвинов обладал удивительным свойством — успокаивать одним своим присутствием, мягко обходить острые углы, незаметно обкатывая и шлифуя их, как океанские волны — острия камней.
Через пару недель я уже немного разобрался в его пристрастиях. Он абсолютно не интересовался политикой, никогда не смотрел новости, неизменно заявляя, что шум повседневности дурного века не должен вторгаться в его вечность, его любимым времяпрепровождением было витание в эмпиреях в поисках эликсира бессмертия и литературные изыскания. Однако Литвинов вовсе не обретался в мире иллюзий. Суждения его были остры и точны, точно он смотрел на жизнь через прицел автомата.
Кроме того ему была присуща невероятная стрессоустойчивость: его нельзя было обидеть, задеть или унизить, ибо у него, как я заметил, просто не было чувства значимости мира и серьёзности происходящего. Из таких людей при дурных наклонностях входят самые хладнокровные убийцы, но Литвинов не имел дурных наклонностей, был незлобив и умён. Он вертел словами и играл смыслами, считал, что вернейший способ сделать разговор нескучным — сказать что-нибудь не то, но в поступках был весьма осмотрителен.
К октябрю я уже считал его отличным парнем — и за последующие тридцать лет моё мнение не изменилось.
Глава 2. Гамлет — святой в искушении
Нет, не хочу сказать, что Литвинов был идеалом.
Он не держал табак в ведёрке для угля, но вполне мог, поглощённый размышлениями о вечном, засунуть сигареты в холодильник, туда, где лежали яйца. Он не играл на скрипке, но все часы в его доме ежечасно на разные лады отбивали время, он же отказывался останавливать их, уверяя, что часовой механизм портится от простоя. И, уж конечно, я никогда не мог примириться с его жуткой манерой варить суп: добавляя в кипящую кастрюльку очередной ингредиент, Литвинов всегда злодейски хихикал, бормоча заклинания шекспировских ведьм в «Макбете»: «Жаба, в трещине камней пухнувшая тридцать дней, из отрав и нечистот первою в котёл пойдёт. А потом — спина змеи без хвоста и чешуи, пёсья мокрая ноздря с мордою нетопыря, лягушиное бедро и совиное перо, ящериц помет и слизь в колдовской котёл вались! Взвейся ввысь, язык огня! Закипай, варись, стряпня!» Я много раз пенял ему на подобное поведение, Литвинов же неизменно отвечал, что занимаясь столь скучным делом как кухарничание, имеет право развлекать себя как умеет. Стряпать он не любил, зато любил считать себя гурманом.
Моё дальнейшее повествование я, наверное, не смогу выстроить линейно во времени. Наши разговоры, точнее, литвиновские реминисценции, запомнились мне тем, что забавляли меня и давали пищу для ума, и я зачастую не помню, когда состоялся тот или иной разговор, был ли он связан с какими-то событиями в нашей жизни, или возник спонтанно. Учились мы вместе два года, затем Мишель устроился в питерский культурный фонд, а я стал журналистом. Жизнь менялась, но неизменным оставалось одно: мы проводили вместе вечера по пятницам, а частенько и выходные, и тогда я слушал затейливые теории Мишеля.
Однако этот разговор, насколько я помню, произошёл вскоре после моего переезда в Банковский переулок.
Литвинов ненавидел университетскую богему и особенно не выносил экзальтированных девиц, обожавших Цветаеву с Ахматовой и даже подстриженных под них. Он уверял, что поклонницы Цветаевой, как правило, глупы, болезненно самолюбивы, склонны к пророческим припадкам, восторженны и сентиментальны, а поклонницы Ахматовой бессердечны и лживы, маниакально горды, склонны к позёрству и упорно пытаются объяснить тебе, что ты должен думать по интересующему их вопросу. На курсе эти партии взаимно презирали друг друга и контактировали с трудом, Литвинов же терпеть не мог и тех, и других. Не любил он и самих поэтесс, видя в поклонницах — отражение духа женской поэзии. Я вяло переубеждал его, но, понятное дело, не слишком усердствовал.
Я быстро убедился в правоте Литвинова в отношении Аверкиевой, тоже заметив истеричность и эгоизм девицы. Ирина могла говорить только о себе, не любила возражения и не желала слышать ничего, кроме комплиментов. На курсе она была предводительницей «цветаевской» партии, обожала стихи, которые декламировала нараспев, томно растягивая слова. Она было влюблена в Литвинова не на шутку, часто подстерегала на лестницах, выясняла отношения, подсовывала записки и иногда даже покупала ему пончики. Пончики Литвинов съедал, на записки не отвечал, порой объяснял девице, что не способен к любви в силу душевной скудости, а иногда утверждал, что робеет в женском обществе.
Эмоциональные всплески Аверкиевой порождали в Мишеле уныние и вялую апатию, а всплесков, что и говорить, хватало. Ирина была просто неиссякаема. Я начал сочувствовать Литвинову.
…В тот октябрьский день на курсе отмечали день рождения Цветаевой, и на семинаре, посвящённом поэтессе, я с тоской слушал Аверкиеву, с невообразимым накалом читавшую цветаевский «Разговор Гамлета с совестью». Мишель уныло сидел возле окна и считал последние листья, падающие с деревьев. На лице его застыло выражение полнейшей покорности злой судьбе, смирение мученика-христианина, бросаемого в пасть львам.
— На дне она, где ил и водоросли… Спать в них ушла, — но сна и там нет! — голос девицы надрывно всхлипнул, потом упал до глухого завывания. — Но я её любил, как сорок тысяч братьев любить не могут! — Ирина сделала небольшую паузу, и снова заговорила низким хрипом, имитируя, должно быть, голос совести. — Гамлет! На дне она, где ил: ил!.. И последний венчик всплыл на приречных брёвнах… — Последовала новая пауза. — Но я её любил как сорок тысяч… Меньше, всё ж, чем один любовник. — Аверкиева вытянулась в струнку и трагическим голосом, бросив презрительный взгляд на Литвинова, закончила. — На дне она, где ил. Но я её — любил??
Когда под восторженные аплодисменты «цветаевок» прозвенел звонок, я, признаюсь, вздохнул с облегчением. В коридоре я присоединился к Литвинову и, зная, что об Аверкиевой лучше не заговаривать, чтобы не сыпать бедняге соль на раны, спросил у него, что он думает о беседе Гамлета с совестью? Он согласен с изложенной поэтической интерпретацией?
Мишель, выйдя на улицу и поёживаясь под пронизывающим октябрьским ветром, поднял воротник пальто и с видом страстотерпца уныло пожал плечами.
— Мнение классика русской литературы почему-то значит для нас больше, чем самые взвешенные научные концепции, — посетовал он. — Русская литература — святыня в отечестве, своего рода светское Евангелие. Ты можешь не разбираться в элементарном, но не знать «Героя нашего времени» или «Чайку»? Как может существовать полноценный русский интеллигент, который не читал «Братьев Карамазовых»? На самом деле, — он замотал горло шарфом, — легко. Но кто же с этим согласится? А между тем, — Литвинов достал пачку сигарет и, закрывшись от ветра, прикурил, — классик русской литературы вполне может говорить ерунду. Да ещё вдобавок — клиническую.