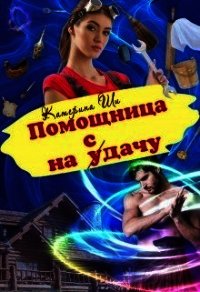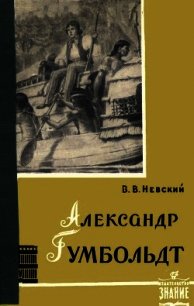Дело о старинном портрете - Врублевская Катерина (книги онлайн TXT) 📗
— Даже не знаю, что сказать, мсье Кервадек. Здесь нет того, что я ищу. Душа не лежит.
— А что именно вы ищете, мадам Авилова? — спросил он.
— Пока сама не знаю. У вас здесь так красиво, просто глаза разбегаются. Но и цены… Неужели эти старые полотна стоят таких денег?
— О цене мы с вами как-нибудь договоримся, — улыбнулся Кервадек.
— Хорошо, — согласилась я. — Но я не вижу тут современных полотен. Вы торгуете только работами старых мастеров?
— На втором этаже у меня зал современной живописи. Скажите, что вы хотите: автор, период, манера письма, — и я подберу картины, которые станут украшением вашего дома.
Пришло время перейти в наступление:
— Буду с вами откровенна, мсье, я приехала в Париж с целью приобрести картины, стоимость которых будет расти со временем, — холодно сказала я. — Мне не нужно украшать дом, он и так ломится от произведений искусства русских мастеров — картин, статуй, фарфора. Но мне рассказали, что сейчас во Франции расцвет импрессионизма, которому пророчат большое будущее. А для России такие картины пока что явление редкое…
Об импрессионизме я впервые услышала от отца. Два года назад он ездил в Москву по судейским делам и как-то, в перерыве между заседаниями, от нечего делать забрел на французскую промышленную выставку, которая располагалась в большом павильоне на Ходынском поле. Помимо экспонатов, демонстрировавших технический прогресс, там были выставлены картины художников, имена которых ничего не говорили московскому обывателю: Моне, Дега… Отца привлек громкий хохот, доносившийся из зала. Публика высмеивала непривычные, написанные крупными мазками картины. Их цветовая гамма возбуждала и раздражала.
Лазарь Петрович подошел поближе. Один из посетителей стоял молча и пристально рассматривал полотна. Причем рассматривал крайне своеобразно: он то подходил близко, то отходил на несколько шагов и, что удивительно, сохранял очень серьезный вид, чего нельзя было сказать об остальных. К нему отец и обратился: «Скажите, вы что-нибудь понимаете в этой живописи? Может быть, люди смеются не напрасно?» Высокий худой человек лет сорока, с пышными усами с проседью, улыбнулся и сказал: «На первый взгляд, в этих хаотично наложенных красках всех цветов радуги нет никакой логики, но попробуйте сделать шаг назад и взглянуть еще раз…» Отец так и сделал. Картина преобразилась: хаос отступил, а в туманной дымке появился дождливый Париж. Так они с новым знакомым, Сергеем Ивановичем Щукиным, московским мануфактурщиком и страстным коллекционером всего на свете, переходили от картины к картине и видели то спелые яблоки, то обнаженную женщину, сидящую на траве у ручья. И все это было ярко, красочно и выглядело так необычно, что захватывало дух.
Отец не мог тогда объяснить себе, понравились ему картины или нет, он спешил на судебное заседание — у него заканчивался перерыв. Напоследок он спросил Сергея Ивановича: как тот выбирает картины? Ведь нелегко без специального образования отыскать жемчужное зерно в навозной куче. На что Щукин просто ответил: «Если, увидев картину, вы испытываете психологический шок, если у вас побежали по телу мурашки, если глаз возвращается к ней снова и снова, пытаясь понять, что же в ней вас цепляет, — покупайте ее. Не ошибетесь». Он был уверен в том, что импрессионистов ждет успех. Может, не сейчас, а через пять, десять лет. А у Лазаря Петровича был редкий дар, который Пушкин называл «чутьем изящного». Это выражалось во всем: в одежде, которую он носил, в гастрономических пристрастиях. Даже дам себе он выбирал из первых красавиц нашего N-ска.
Помнится, я тогда спросила его: повесил бы он картину с обнаженной натурщицей в гостиной своего дома? Отец улыбнулся и ответил: в гостиной не повесил бы, чтобы не смеялись те, кто ничего не понимает в живописи, и чтобы не смущать непривычных к таким картинам обывателей; а вот в спальне повесил бы с удовольствием, да еще никому не показывал бы, чтобы самому наслаждаться нежными красками тела юной натурщицы…
— Мадам Авилова! — окликнул меня Кервадек. — Вы меня слышите?
— Ох, простите, я задумалась, это ваши замечательные картины на меня так повлияли.
— Если вас интересуют картины импрессионистов, они на втором этаже. Хотите посмотреть?
— С удовольствием!
Мы поднялись по узкой винтовой лестнице и оказались в светлом зале с высокими окнами.
Здесь картин было значительно меньше, а их фамилии мне и вовсе ничего не говорили: Дени, Валлоттон, Боннар.
— Кто это? — спросила я, остановившись перед одной из картин — это был вид Парижа в блекло-серых тонах. — Вот уж не знала, что этот прекрасный город может быть таким невзрачным.
— Это Боннар, — ответил Кервадек. — Вот увидите, он еще о себе заявит. Париж, мадам, бывает разный, он не всегда похож на ослепительную глянцевую открытку.
— А почему у вас в галерее нет знаменитых импрессионистов: Моне, Ренуара, Сезанна? Это дорого для вас, мсье Кервадек?
— Проданы, — усмехнулся он. — А тут собраны молодые художники. И если вы действительно хотите начать коллекционировать импрессионистов, лучшего я не могу предложить.
— Я подумаю, — нерешительно произнесла я и, как бы продолжая колебаться, добавила: — Вы, конечно, слышали, что сгорела мансарда моего друга и в огне погибли все его картины?
— Слышал, — кивнул он.
— Скажите, мсье Кервадек, а у вас не остались его работы? Сесиль говорила, что Андре приносил вам холсты на продажу.
— Что вы говорите? — удивился он. — Не помню. Мне многие молодые художники приносят работы на комиссию. Но я не у всех беру картины.
— Я вас умоляю! Поищите, ведь на вас последняя надежда!
Кервадек вздохнул и стал тяжело спускаться по лестнице.
— Только ради вас, мадам Авилова! А ведь я предлагал вам выкупить картины Андре. Были бы сейчас у меня в целости и сохранности. Но вы меня прогнали. Ну ладно, не вы, — он заметил мой протестующий жест, — а ваша спутница, да упокоится она с миром, — такая юная девушка. И кому теперь хорошо от этого? Может быть, ваш Протасов посмертно вошел бы в историю. Великий художник — это мертвый художник. Это я вам говорю как человек, который уже пятьдесят лет вертится в этом деле. Я бы мог сделать его великим, ведь я умею продавать картины. Написать каждый дурак сумеет, ты попробуй продай. А сейчас ничего — ни картин, ни художника…
Я присела на диванчик возле окна и пригорюнилась.
— Ну полно, полно… — начал он меня успокаивать. — Сейчас я спущусь в подвал, там у меня склад, а вы подождите. Только не обессудьте, если ничего не найду.
— Хорошо! — обрадовалась я. — Подожду!
Через несколько минут Себастьян Кервадек вернулся, неся две картины небольшого размера.
— Вот, еле нашел, — сказал он, вытирая лоб.
Одна картина изображала синюю женщину, всю в подтеках краски и брызгах. По контуру и складкам фигуры были прочерчены красные линии. Это было похоже на тушку голодного цыпленка, которого несколько раз надрезали, да так и оставили. От второй картины у меня возникло ощущение, что Протасов просто вытирал о нее кисть. На ней были изображены несколько прямоугольников с надписями «Театр», «Бульвар» «Кабаре», заляпанных пятнами, кривыми полосками и штрихами. На обеих картинах внизу было написано по-русски: «Андрей Протасов, Париж, 1894 год».
— Да уж… Мне никогда не понять современной живописи. Возьму их только из уважения к покойному. Сколько вы хотите за эти картины? — спросила я. — Сто франков? Двести?
— Тысячу, — спокойно ответил Кервадек и добавил, глядя мне прямо в глаза: — За каждую.
Я опешила.
— Вы издеваетесь, мсье? Это безумная цена. Хоть покойный и был моим другом, но, поверьте, я могу трезво оценивать, что хорошо, а что нет.
— Боже упаси! Давайте рассуждать логично, мадам Авилова. Вы хотите купить картины покойного художника? Они остались только у меня, остальные сгорели. Так что перед вами подлинный Протасов, как ни странно это признать, раритетный. А раритеты стоят денег. На каждый товар найдется когда-нибудь покупатель. Хочешь, чтобы тебя оценили, — умри.