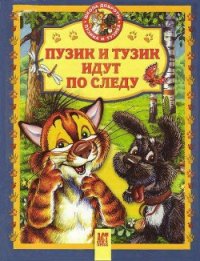Антология исторического детектива-18. Компиляция. Книги 1-10 (СИ) - Хорватова Елена Викторовна
— А я-то знал! — вдруг заговорил один из околоточных. — Девочку еще раньше приметил, но до конца процедуры докладывать не стал.
— Какой процедуры? — удивился Михаил Георгиевич.
— Да как же? — околоточный вопросу Михаила Георгиевича удивился не меньше: странно, что пусть и врач, но, как-никак, полицейский задает такие вопросы. — О признании родства. Я ведь должен всех прибывающих отмечать, чтобы с видом на жительство никаких нарушений не было, но в этот раз… оплошал малость: решил не докладывать, пока процедура не закончена [677]!
— Ах, вот оно что…
Михаил Георгиевич внимательно посмотрел на открытое и в этой открытости казавшееся простоватым лицо «оплошавшего» околоточного:
— Ах, вот оно что… — повторил он и кивнул.
— Да, ваше благородие… как-то так. Но вы ведь не станете писать рапорт?
— Ну вот еще!
По губам околоточного скользнула улыбка. Михаил Георгиевич тоже улыбнулся и отвернулся.
— Но причем тут ужас? — спросил тогда Петр Васильевич.
— А при том, — немедленно ответила Лидия Захаровна, — что страсть это — предоставить все необходимые свидетельства, учитывая в особенности то, что в основе всего — беззаконное признание священника! Проще было бы удочерить, но вы же сами видите: какая из меня мать? Будь я мужчиной, вопросов не возникло бы. Но для женщины… женщин у нас не ставят ни во что! Мужчине хоть при смерти позволят удочерить малолетнюю, а женщине, да еще и пожилой, — кукиш без масла!
Лидия Захаровна обвела всех вопрошавшим взглядом: что, мол, не так? Возразить, однако, никто не решился, хотя в словах Лидии Захаровны одна неточность все-таки была: процесс удочерения (как, впрочем, и усыновления) юридически никакого различия между мужчинами и женщинами не делал. Больше того: именно на женщин в Империи приходилось наибольшее количество такого рода признаний, что было вполне естественно. Единственным ограничением являлась фамилия: дать собственную женщина такому ребенку не могла или, если уж очень того желала, должна была заручиться согласием собственного отца либо иного родственника по отцу — если отец уже умер. В противном случае, ребенок в качестве фамилии получал отчество сбежавшего или отказавшегося от него непутевого папаши. Например, сын Ивана Николаевича становился Николаевым, а дочь Ивана Петровича — Петровой.
— Намучилась я, собирая бумаги, а тут еще и вот этот объявился! — вдова пальцем ткнула в притаившегося за спиной Михаила Георгиевича инспектора. — Совсем, собака, душу вымотал: повадился ко мне со своими инспекциями…
— Да я-то что! — неожиданно писклявым голосом воскликнул инспектор. — Если… если… у вас тут такое безобразие!
И он обвел рукой и вправду никуда не годившуюся обстановку фермы. Но этот жест никого не убедил, как, впрочем, и явные нарушения санитарных норм уже никого не интересовали: по свойственной людям отзывчивости перед лицом подлинных бедствий или подлинно хороших поступков, все — и Михаил Георгиевич, и Петр Васильевич, и Константин, и пятеро полицейских — прониклись к вдове сочувствием и теперь закрывали глаза на ее собственные очевидные прегрешения. В общем, люди встали на ее сторону. Вот только вопрос коровы по-прежнему оставался непроясненным, как, собственно, и механизм приключившегося на ферме.
— Но… корова? Откуда она? Зачем? — спросил Петр Васильевич.
Лидия Захаровна покачала головой:
— Хотите верьте, хотите — нет, но мне пришлось перевезти ее сюда. Катя напрочь отказалась ехать без нее, а она… — вдова опять — и опять не очень решительно — похлопала Муру по боку, — буквально разрыдалась перед расставанием! Что мне оставалось делать?
Петр Васильевич заморгал:
— Разрыдалась?
— Ну… да. Никогда такого не видела, а тут — пожалуйста! Мычала в голос, и слезы у нее из глаз катились: вот такие — с кулак!
Петр Васильевич сглотнул:
— Невероятно… — прошептал он и посмотрел сначала на Муру, а потом и на девочку.
Катя уловила его взгляд и тут же бесхитростно пояснила:
— С рождения мы вместе!
В этих словах была такая гордость, что все невольно вздрогнули. Даже инспектор прикусил губу, а затем снял с переносицы очки и принялся их протирать.
— Ко мне уже не раз пытались вломиться, — между тем, продолжала вдова, — сброд всевозможный: поживиться… вином. Прознали, сволочи, где бочки хранятся, вот и повадились. Понятно, терпеть я этого не могла, вот и устроила ловушку: протянула от бечевку к электрическому звонку. Звонок — если бечевку задеть — раздавался и здесь, на ферме, и у меня: в доме. И как раз сегодня… да вот: буквально с полчаса назад… он и затрезвонил! Я побежала сюда, а тут… такое…
Лидия Захаровна заозиралась, в очередной раз осматривая последствия погрома.
— Вероятно, звон испугал Муру: она ведь никогда электрического звонка не слышала…
— Испугал! — инспектор водрузил очки обратно на переносицу и снова вмешался: на этот раз — возмущенно. — Испугал! Да она вылетела на меня и стала брыкаться!
— Брыкаться! — Петр Васильевич. — Что за вздор! Коровы не брыкаются!
— А эта — брыкается! — настаивал инспектор. — И еще как брыкается, уж поверьте мне на слово! Загнала меня в яму… с навозом, а сама еще и по нижней бочке копытом поддала! Та вдребезги и расшиблась. Остальные покатились — прямо на меня. Тут-то, — подумал я, — мне и конец, но, к счастью, бочки только навалились на меня и притопили: пошевелиться я не мог, но тяжести особенной не ощущал… И всё же страшно было — жуть! Мне показалось… показалось… ну, в общем, решил я, что в этой яме и утону.
Инспектор замолчал.
Петр Васильевич во все глаза смотрел на необыкновенную корову и продолжал что-то пришепетывать. Мура же, словно понимая, что речь — о ней и о ее подвигах, мягко поцокивала копытами и вальяжно поворачивалась к публике то одним своим боком, то другим. Она явно любовалась собой и другим позволяла делать то же!
— Ну и ну… ну и ну… — бормотал Петр Васильевич. — Фантасмагория… цирк… не хватает кролика из шляпы!
И вот тогда-то вперед шагнул околоточный — не тот, который уже вступал в разговор, а другой — и, едва не положив на плечо инспектору руку, но тут же ее отдернув, потребовал:
— Ступайте за мной!
Инспектор отшатнулся:
— Что?
— Ступайте за мной! — повторил околоточный. — Вы задержаны за незаконное проникновение и попытку кражи!
Инспектор — это было видно даже за пятнами покрывавшего его лицо навоза — побледнел:
— Незаконное проникновение? Попытка кражи? Да в уме ли вы, милостивый государь?!
В голосе инспектора одновременно слышались ужас, растерянность и невероятная обида.
— Именно так, господин хороший, — остался непреклонным околоточный. — Именно так!
— Не трогайте меня! — взвизгнул тогда инспектор.
Околоточный, сморщившись, ухмыльнулся:
— Даже не думаю!
— Я всё расскажу!
Околоточный взглядом окинул инспектора с головы до пят и прищурился:
— Воля ваша. Но имейте в виду: вот эта дама и все эти господа — свидетели. Должен вас предупредить: данные при них показания оспорить вы уже не сможете!
— Не собираюсь я ничего оспаривать! Просто выслушайте меня!
Это последнее восклицание — «просто выслушайте меня!» — относилось уже не столько к околоточному, сколько к Лидии Захаровне, а заодно и к Петру Васильевичу с Михаилом Георгиевичем. И они — вдова, управляющий и врач — взглядами дали понять околоточному, что ничего против не имеют. И даже напротив: им и самим интересно, что же такого может поведать этот теперь нелепый, но только еще утром настолько страшный для округи человек!
— Говорите!
Инспектор заговорил.
Инспектор: сокращение
— Понимаете, — заговорил инспектор, — я родился в бедной семье…
Да простит читатель авторов, но мы, прикинув и так, и эдак, решили не выкладывать всё, что наговорил о себе этот человек: это было бы слишком длинно, потому что инспектор оказался уж очень словоохотливым. Возможно, конечно, его словоохотливость объяснялась пережитыми им потрясениями — сначала падением в выгребную яму, а затем и угрозой ареста по отнюдь не шуточному обвинению, — но факт остается фактом: если бы мы позволили себе привести его рассказ целиком, он один оказался бы больше, нежели вся наша книжка в целом!