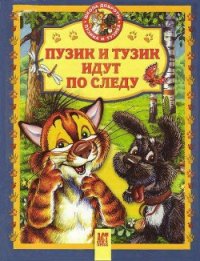Антология исторического детектива-18. Компиляция. Книги 1-10 (СИ) - Хорватова Елена Викторовна
— Меня, — заговорила Варвара Михайловна, — сразу здесь невзлюбили: не отрицайте. Начали приписывать мне всякие гадости, а заодно и побуждения, которых у меня и в мыслях не было никогда! Но вам, господа, имеется оправдание: вы — далеко не первые. Конечно, оправдание это хлипкое, но какое уж есть: в конце концов, я вам — не адвокат. Скорее даже — напротив: ваш обвинитель. Но не пугайтесь: у меня нет никакого желания устраивать над вами процесс в духе каких-нибудь английских суфражисток! Всё, чего я от вас хочу, — это чтобы вы оставили свою предвзятость в отношении меня и моих подруг и дали нам спокойно работать. Поймите: как только вы перестанете сверлить нас взглядами исподтишка, перестанете распространять о нас самые нелепые и невозможные слухи, перестанете иными способами вставлять нам палки в колеса, мы сможем взяться за дело так, чтобы оно — наконец-то! — начало приносить пользу… думаете, стоять с абсурдными плакатами на проспекте — это и есть наше призвание?
— С абсурдными! — не удержался от удивленного восклицания Петр Васильевич. — Так вы понимаете их абсурдность?
Варвара Михайловна улыбнулась:
— Конечно. Или вы что же: совсем нас за дурочек принимаете?
— Но почему же тогда…
— Да потому что у нас иного выхода нет! Вот, послушайте…
Неожиданно к Варваре Михайловне приблизилась Мура. И так же неожиданно для всех Варвара Михайловна не только не испугалась огромной коровы, но и — в отличие от вдовы, всё-таки проделывавшей это с некоторой опаской — легонько и ласково похлопала Муру по боку.
Петр Васильевич одобрительно цокнул языком.
— Сколько себя помню, — заговорила, между тем, Варвара Михайловна, — меня всегда окружали животные: лошади, собаки, кошки… коровы — тоже: у моего отца под Тверью было огромное молочное стадо. И так уж получилось, что не только я любила собак, лошадей и кошек, но и они меня. Мои родители даже подшучивали над этим: мол, вот она — неизбирательность любви! Я палец о палец ради моих любимчиков не ударяю — не хожу за ними, не кормлю их, не пою, — но любят они меня, бездельницу, а не тех, кто занимается ими с утра до вечера! И пусть произносились эти слова отчасти в шутку, но правда в них тоже была: животных-то я любила, и они любили меня, но разве я хоть что-нибудь ради них делала? Тогда, конечно, меня это не слишком беспокоило: текла привольная деревенская жизнь, я была маленькой девочкой, вокруг меня на все четыре стороны простирался великолепный изобильный мир, в котором не было места ни черным думам, ни черному насилию, ни черным подозрениям. Но однажды всё это кончилось. Однажды отец и мать вызвали меня в кабинет, чего дотоле не случалось никогда, и огорошили известием: с осени — а наступала осень уже через неделю — я поступаю в учебу. Меня — сказали они — уже ожидают в Елисаветинском институте [684]: нужно подготовиться, а значит, и выехать в Петербург заранее — уже вечером проходящим через Тверь московским поездом.
Варвара Михайловна перевела дыхание, но никто не воспользовался возникшей заминкой, чтобы вставить собственное слово или замечание.
— Ехать я не хотела, но делать было нечего: несмотря на устроенный мною скандал, отец и мать остались непреклонны. Вот так и получилось, что уже утром следующего дня мы были в нашем петербургском доме, а еще через несколько — я пансионеркой перешла в институт и поселилась в нем на следующие годы.
Не могу сказать, что эти годы оказались для меня каким-то особенно тяжким испытанием: разве что поначалу я испытывала некоторые трудности, вызванные уж слишком привольным от рождения воспитанием, а ныне — нуждою подчиняться уставу. Однако первые затруднения прошли, я пообвыкла, у меня появились подруги, классные дамы и преподаватели меня не задирали… в общем, жизнь пошла хотя и не в пример унылая — в сравнении с моею прежней деревенской жизнью, — но гладкая и без лишений. Временами меня навещали родители, временами я возвращалась к ним: между семестрами. И так оно бы всё и прошло, если бы не случилось страшное…
Варвара Михайловна опять оборвала саму себя, ее лоб нахмурился, от глаз побежали морщинки.
— Я говорю «страшное», — после паузы продолжила она, — но это выглядело страшным не для всех. Для некоторых в этом не было ничего особенного. Некоторым… некоторые…
— Что же произошло?
— Однажды в наш двор — я имею в виду институтский — прибилась сука на сносях. Девочки в большинстве своем обрадовались — хоть какое-то развлечение, — но радость длилась недолго. Прямо на наших глазах, невзирая на наши крики и уговоры, несчастную собаку…
Дыхание Варвары Михайловны участилось. Она приложила руку к сердцу, словно пытаясь унять его биение.
— Что? Что? — посыпались встревоженные вопросы.
Варвара Михайловна вздохнула:
— Был у нас один очень неприятного вида француз: он проходил по управлению вообще, то есть, на общий наш взгляд, был обыкновенным бездельником, пристроившимся на казенное содержание. Он ничему не учил, ничего не преподавал, не занимался врачеванием, не проводил осмотры помещений и фасадов [685] — не делал ничего и даже видимостью занятости не заботился. Как его держали и зачем, до сих пор ума не приложу, тем более что — повторю — типом он был премерзким. Если в те годы и было что-то, что могло испортить нам настроение, так это именно он!
— Но что же он сделал?
— Он самым безжалостным образом выбросил несчастную вон! Не просто выгнал — нет. Говоря «безжалостно», я именно это и имею в виду: звериную, ничем не оправданную жестокость! Собачка визжала, скулила, кричала, рыдала, сжималась в комочки, а он — пинками в своих тяжеленных ботинках — гнал ее со двора, избивал, мучил… Тот день мы все — по нашему курсу — запомнили навсегда!
Варвара Михайловна замолчала.
Константин сжимал и разжимал кулаки: с его уст рвалось безобразное ругательство, но он каким-то чудом удерживал его при себе.
Петр Васильевич был бледен.
Лидия Захаровна привлекла к себе Катю и так и стояла: обняв ее и как будто защищая.
Околоточный, другой околоточный и городовые были бледны так же, как Петр Васильевич, а их кулаки сжимались и разжимались, как у Константина.
Михаил Георгиевич обеими руками держался за грудь, прижимая к себе укрытого под пальто и шарфом Линеара.
— Да, господа, — заговорила вновь Варвара Михайловна, — тот день мы запомнили навсегда!
— Так вот кто ваши подруги! — высказал предположение околоточный.
— Верно! — подтвердила Варвара Михайловна. — Мы все — выпускницы одного курса.
— А дальше?
— А дальше мы дали друг дружке слово: как только мы выйдем в мир, мы жизни положим, но сделаем всё, чтобы такого больше никогда не повторилось!
Губы Варвары Михайловны сложились в узкую полоску. На лице появилось выражение горечи.
— Безуспешно? — догадался околоточный.
— А вы как думаете? — задала риторический вопрос Варвара Михайловна и тут же сама на него ответила: — Разумеется, безуспешно. Мы создали и даже смогли в установленном порядке зарегистрировать общество по защите животных, но с первых же дней столкнулись с такими трудностями, о каких и подозревать не могли! Нам все — все! — чинили препятствия. Поначалу мы открыли приют для бездомных и потерявшихся животных, но нас принудили его закрыть…
— Как так? Почему?
— Выставили претензию: ни у одной из нас не было ветеринарного образования!
— Но…
— Да: мы могли бы нанять ветеринара. Но между возможностью теоретической и возможностью практической лежала, как тут же выяснилось, непреодолимая пропасть: никто из мужчин-ветеринаров не захотел работать у нас, а женщин с таким образованием — вы понимаете — не было вовсе!
— М-да…
— Но было и еще кое-что, что нам поставили в упрек. И уж это-то было совсем выше нашего понимания. Представляете? В Градоначальстве нам заявили, что мы дублируем — именно это словечко — мерзкое, гнусное — нам в лица и бросили… Мол, деятельность наша с приютом дублирует деятельность городской службы, куда и свозятся все найденные на улицах бездомные животные! Мы пытались протестовать, ведь разница была очевидной: в нашем приюте животные содержались бессрочно, тогда как в городском — лишь несколько дней, после чего их всех… убивали! Но нас отказались слушать.