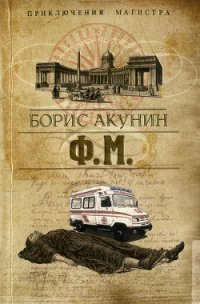Алтын-Толобас - Акунин Борис (чтение книг .TXT) 📗
Нагибаясь, рыкнул:
– Горрло перегрызу.
Не грозил – извещал.
Корнелиус в ужасе забился, глядя на приближающуюся ощеренную пасть с острыми, волчьими зубами. Вервольф! Самый настоящий, каким няня в детстве пугала!
Краем глаза заметил движение. Это аптекарь наконец шагнул от стены, обеими руками поднял тяжелого Замолея в серебряном окладе с камнями и что было силы ударил оборотня сбоку по голове.
Несколько камешков выскочили из гнезд, запрыгали по доскам.
Юсупа качнуло в сторону – на щеке и скуле чернеца от соприкосновения с огненными лалами проступили вмятинки.
Зарычав, хашишин обернулся к Вальзеру, ухватил его за край куцавейки.
Воспользовавшись тем, что одна рука свободна, Корнелиус выхватил-таки стилет и всадил монаху снизу вверх в основание подбородка – до самого упора, а потом выдернул и вторую руку, пихнул Юсупа в грудь.
Тот опрокинулся навзничь. Хлопая маслянисто-черными глазами, стал хвататься за бороду – стилета под ней было не видно, только булькало что-то да посвистывало. Похоже, удар пришелся туда, куда надо.
Фон Дорн вскочил на ноги и подобрал кистень, готовый, если понадобится, расколоть чудищу череп. Не понадобилось. Юсуп еще побился немного, похрипел и затих. Борода, пропитываясь алым, становилась похожа цветом на незабвенный колор «Лаура».
– Благодарю вас, герр доктор, – с чувством произнес Корнелиус. – Вы спасли мне жизнь.
Вальзер, хоть весь и трясся, церемонно ответил:
– Рад хоть в чем-то оказаться полезным, герр капитан.
На этом обмен любезностями завершился, потому что в доме захлопали двери, раздались мужские голоса – видно, схватка с Юсупом была слишком шумной.
– Дайте! – Корнелиус вырвал у аптекаря Замолея, запихнул в мешок. – Скорей во двор!
Бежали по скрипучему снегу: Вальзер впереди, налегке, с одной только веревкой в руках; согнутый в три погибели капитан поспевал следом. Чертов мешок тянул пуда на два, а то и на три.
Крюк на стену неловкий аптекарь закинул только с третьего раза. В окнах зажглись огни, и видно было, как внутри мечутся тени.
– Лезьте! – приказал фон Дорн, подпихивая Вальзера в зад. – Примете мешок. Потом я.
Аптекарь кое-как вскарабкался. Когда тянул мешок, чуть не сверзся обратно.
Стукнула дверь.
– Братие, вон он, душегуб! Вон, на стене!
Стиснув зубы, Корнелиус лез по веревке. Сзади приближался топот. Хорошо хоть Вальзер исчез на той стороне, кажется, так и не замеченный монахами.
Капитан вцепился руками в край стены, подтянулся.
Но тут мушкетера снизу схватили за ноги, рванули, и он сорвался, а сверху уже навалились распаренные, сопящие – да не один или двое, а по меньшей мере полдюжины.
Корнелиусу фон Дорну было очень скверно.
Он дрожал от холода в узком и тесном каменном мешке, куда его головой вперед запихнули тюремщики Константино-Еленинской башни.
Башня была знаменитая, ее страшилась вся Москва, потому что здесь, за толстыми кирпичными стенами, располагался Разбойный Приказ, а под ним темница и дознанный застенок, из-за которого башню в народе называли не ее природным красивым именем, а попросту – Пытошной.
По ночному времени схваченного на митрополитовом подворье разбойника дознавать не стали, а сунули до утра в «щель», выемку длиной в три аршина, высотой и шириной в один – не привстать, ни присесть, да и не перевернуться толком. Больше суток в такой мало кто выдерживал, а иные, которые сильно тесноты боятся, и ума лишались. Служители приказа, люди опытные и бывалые, знали: кто в «щели» ночку пролежит, утром на дознании как шелковый будет. И палачу возни меньше, и дьяку облегчение, и писцу казенную бумагу на пустые враки не переводить.
Первые минут пять оцепеневший от ужаса капитан бился во тьме, стукаясь затылком о твердое, а локтями утыкаясь в камень. Дверцу – не дверцу даже, заслонку – за ним захлопнули, оставили малое окошко, чтоб не задохся.
Потом фон Дорн стиснул зубы и велел себе успокоиться. Брат Андреас, до того как уехать в Гейдельбергский университет, а после в монастырь, часто говорил с Корнелиусом, тогда еще подростком, о природе страха. В ту пору Андреас почитал худшим врагом человеческим не десять смертных грехов и не Дьявола, а страх. «Страх – это и есть Дьявол, все наши несчастья от него», – повторял старший брат. И еще: «Никто не напугает тебя так, как ты сам. А ведь бояться-то нечего. Что уж, кажется, может быть страшнее смерти? Только и смерть вовсе не страшная. Она не только конец, но и начало. Это как в книге: нужно прочитать до конца одну главу, а на следующей странице начнется другая. И чем лучше твоя книга, тем вторая глава будет увлекательней».
Как же еще-то он говорил?
«Если тебе плохо, помни, что плохое когда-нибудь закончится, и не падай духом. Не бывает так, чтобы человеку совсем уж делалось невмоготу тогда милосердный Господь сжалится и заберет душу к себе. А пока не забрал, крепись».
И Корнелиус стал крепиться.
Ну и что ж, что каменный мешок и не приподняться, сказал он себе. А если б я в постель улегся, спать, к чему мне подниматься? Почивай себе до утра.
Он попробовал представить, что над головой у него не каменная кладка, а бескрайний простор и высокое ночное небо. Если же он не встает, то не от невозможности – просто не желает. Ему и так славно. То волокли по улице, пинали и били, а теперь хорошо, спокойно, и лежать не так уж жестко, солома подстелена.
Утром, когда на дознание поволокут, вздернут на дыбу и начнут кнутом кожу со спины сдирать, эта «щель» раем вспомнится…
Нет, вот об этом думать не следовало – при мысли о застенке худщий враг рода человеческого набросился на Корнелиуса люто, скрутил и так закогтил сердце, что хоть вой.
Только бы утро подольше не наступало!
Повезло Адаму Вальзеру, вышел сухим из воды. Поди, еще затемно, как только ночные дозоры с дорог уйдут, кинется вон из Москвы. Захватит своего ненаглядного Замолея, прочие книги бросит. Ну, может, еще Аристотеля драного прихватит, тяжесть невелика.
Язык он знает хорошо. Нацепит кафтанишко, валенки, шапчонку кошачьего меха – сойдет за русского. Глядишь, и до границы добежит, Бог слабым покровительствует. А там, в Европе, все аптекаревы мечты осуществятся. Переплавит он ртуть, сколько достанет, в золотые слитки и заживет себе вольным богачом.
Так стало горько от этой несправедливости, что дрогнул капитан фон Дорн, заплакал. Что на пытке-то говорить? Называться, кто таков, или уж лучше терпеть, помалкивать? На канцлерову защиту всё одно надежды нет – за убийство в митрополитовом доме боярин Матфеев своего адъютанта сам палачу отдаст… Крикнуть «слово и дело»? Рассказать про тайник, про Либерею? Так всё равно выйдет, что Корней Фондорин вор. Украл царево имущество, и знал, чьё крадет. За это – Вальзер говорил – руку рубят и после на железный крюк подвешивают. Надо будет сначала узнать, как московиты карают за убийство монаха, и тогда уж выбирать, кричать «слово и дело» или помалкивать.
На этой мысли Корнелиус и успокоился. Главное ведь – принять решение, а на остальное воля Божья.
Поворочался немного (солома мало спасала), потрясся от каменного холода и сам не заметил, как уснул.
Назавтра заслонка загрохотала лишь далеко за полдень. Одеревеневшего фон Дорна за ноги вытащили из «щели» и поволокли под мышки из одного подвала в другой, только не холодный, а жаркий, потому что в углу расспросной каморы пылал огонь и приземистый мужик с засученными рукавами, в кожаном переднике, шевелил там, на углях, какими-то железками.
Корнелиус сначала посмотрел на раскаленные клещи, на свисавшую с потолка веревку (это и была дыба), и только потом повернулся к столу, за которым сидели двое: козлобородый дьяк с бледным тонкогубым лицом и молоденький писец, раззявившийся на арестанта с любопытством – видно, пытошная служба ему была внове.
Страха нет, сказал себе фон Дорн, и стиснул зубы, чтоб не стучали. Есть боль, но боль – лишь простой зуд потревоженных нервов. Станут пытать – будем орать, больше всё равно делать нечего.