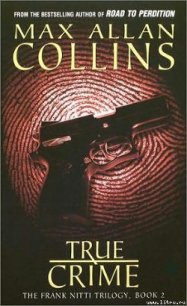Синдикат - Коллинз Макс Аллан (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Но вскоре вместо романтических ухаживаний папа очутился в тюрьме. Работа в профсоюзе постоянно приводила к столкновениям с копами, и его арестовали во время стачки на текстильной фабрике. Так он угодил на месяц в тюрьму в Брайдвел.
Тюрьма была каменным мешком без туалета, только пятигаллоновое ведро в углу камеры. Вдоль стен – нары с соломенными матрасами, одеялами толщиной с бумажный лист и вонью, заметной и глазу. Воды в камерах не было, хотя в шесть утра заключенным давали несколько минут, чтобы облиться холодной водой до того, как один из двух дежурных по камере присоединялся к шествию с отхожими ведрами, которые опорожняли во дворе в огромные выгребные ямы, а потом обрабатывали химикалиями. Раз в неделю для всех заключенных был душ. С утра до вечера папа в огромной глиняной яме дробил большие куски извести.
Ему и раньше приходилось тяжело работать: уж за этим-то тетя Анна следила. И был он здоровяком: той же конституции, что и я, около шести футов... Но и на нем сказался месяц пребывания в Брайдвеле: он вышел, потеряв двенадцать фунтов. На завтрак давали сухую овсяную крупу, на ланч – жидкий суп, на ужин – похлебку, где горох и волокна разварившейся говядины плавали в какой-то непонятной жидкости; все порции мизерные, с тремя кусками хлеба. Но как ни странно, папа часто говорил, что не ел ничего вкуснее свежеиспеченного тюремного хлеба. От каменной пыли у него появился кашель, но он гордился своим мужеством и тем, что из-за принадлежности к Союзу попал в тюрьму. Кроме того, ему нравилась роль страдальца-мученика.
Но вот Джанет не была в восторге от всего этого. Она пришла в ужас, увидя в каком состоянии отец вышел из Брайдвела. До того, как попасть в тюрьму, он сделал ей предложение, попросив у родителей ее руки. Она пообещала подумать. А теперь сказала, что выйдет за него замуж при одном условии...
Вот так папа оставил работу в Союзе.
На Максвел-стрит отец бывал в поисках политической и профсоюзной литературы. Он не хотел работать где-нибудь, вроде банка (это он оставил брату Луи), но и на фабрику не мог устроиться – он был в «волчьем списке» на всех фабриках Чикаго, а там, где его в такие списки не внесли, пришлось бы вступить в профсоюз. Поэтому он открыл на Максвел-стрит лавку, продавая книги – старые и новые – в основном романы, по десять центов за штуку, которые вместе со школьными товарами – карандашами, ручками и чернилами – привлекали детишек, его лучших покупателей. Иногда любители Буффало Билла и Ника Картера хмурились, видя на прилавке литературу Союза и анархистов. Даже равнодушная к политике Джанет его за это критиковала, но ничто не могло поколебать папу. Ведь Максвел-стрит была тем местом, где торговали всем, чем угодно.
Расположенная примерно в миле на юго-запад от Нетли, Максвел-стрит площадью с квадратную милю была центром еврейского гетто. Большой пожар 1871 года (случившийся благодаря корове миссис О'Лири, опрокинувшей ногой фонарь) пощадил левую сторону Максвел-стрит. И теперь этот район, плотно заселенный жителями из сгоревшей части Чикаго, привлекал торговцев – в основном пеших евреев с двухколесными тележками. Вскоре улица заполнилась торгующими бородатыми патриархами; их кафтаны почти ежедневно мели пыльные деревянные тротуары, черные шляпы выгорали на солнце до серого цвета.
Продавали обувь, фрукты, чеснок, кастрюли, сковороды, пряности.
К тому времени, как папа открыл здесь прилавок, Максвел-стрит считалась в Чикаго большим рынком, куда богатые и бедные шли торговаться, где от каждого магазина выступал навес и торговля начиналась уже на тротуаре. Проходы были так темны, что напоминали туннели, и немногочисленные лампы развешивались так, что не позволяли покупателю рассмотреть носки без пальцев, уже использованные зубные щетки, бракованные рубашки и другие чудеса, олицетворявшие собой душу этой улицы. Была ли у улицы душа или нет, не могу сказать, но запах у нее определенно был: запах жареного лука. И даже запах мусора, сжигаемого в открытых ящиках, не мог заглушить этот аромат.
Под стать луковому запаху были ароматы, поднимающиеся от горячих сосисок, а когда лук соединялся с сосисками в свежей булке, то с улицы нужно было бежать бегом.
Новобрачные поселились в комнатке в типичном для района Максвел-стрит многоквартирном доме на углу Двенадцатой и Джефферсона, трехэтажном, дощатом, с черепичной крышей и наружной лестницей. В здании было девять квартир и около восьмидесяти жильцов; одна трехкомнатная была жилищем для дюжины человек. Геллеры – единственные жильцы в своей однокомнатной квартирке – делили туалет с двенадцатью или тринадцатью соседями (один туалет на этаж); а вот комнату они делили на двоих, и, может быть, из-за этого я и появился.
Я представлял, как папа в тихом бешенстве жил этой монотонной, однообразной жизнью: работу в Союзе, так много для него значившую, заменил прилавок. Ирония судьбы состояла в том, что, отказавшись от работы в банке, отец попал, тем не менее, в атмосферу гораздо более капиталистическую. Любимая Джанет и надежда быть отцом семейства теперь составляли смысл всей его жизни.
Мать, будучи по-прежнему болезненной, в 1905 году родила меня. Роды были тяжелые. Акушерка из амбулатории на Максвел-стрит спасла нас, но предупредила родителей, что Натан Сэмюэль Геллер должен остаться единственным ребенком в семье.
Однако большие семьи тогда были правилом, и несколькими годами позже моя мать умерла при родах. Акушерка даже не успела дойти до дома, как мать скончалась на окровавленных руках отца. Мне казалось, что я помню, как стоял рядом и наблюдал за всем. Но может быть, подробная достоверная история, спокойно и отстранение рассказанная мне отцом всего только один-единственный раз, заставила меня думать, что я помню. Ведь мама умерла в 1908 году, когда мне было около трех лет.
Своих чувств папа не показывал: это было не в его обычае. Не помню, видел ли когда-нибудь его плачущим. Но потеря мамы сильно потрясла его. Имея ближайших родственников с обеих сторон, логично было бы допустить, чтобы меня вырастила тетя или еще кто-нибудь (свою помощь предлагал и дядя Льюис, как я узнал позже, и мамины сестры и брат), но отец отказал всем. Я был всем, что у него осталось, и всем, что осталось от нее. Это не означало, что мы были близки. Несмотря на то, что я с шести лет помогал ему за прилавком, мы с ним, казалось, имели немного общего за исключением, пожалуй, интереса к чтению, но мое бессистемное «проглатывание» книг сильно его раздражало. Уже с десяти лет я читал Ника Картера, вскоре перейдя к потрепанным книжкам о Шерлоке Холмсе. А когда подрос, то захотел стать сыщиком.
Наша жизнь становилась все хуже и хуже. Делать закупки на Максвел-стрит становилось опасным приключением, а жить там – настоящим бедствием. Была страшная теснота: теперь в нашем доме проживало сто тридцать человек, и на отца с сыном, занимающих одну комнату, соседи стали смотреть с завистью.
Во многих мастерских здесь применяли потогонную систему, что, конечно, донимало отца – в его жилах текла кровь профсоюзного лидера; были и болезни (мама умерла трудными родами, но папа обычно винил в ее смерти грипп, возможно таким способом реабилитируя себя); было здесь и зловоние – от отбросов, сортиров и конюшен.
Я ходил в школу Уолша, и, хотя не принимал участия в междуусобицах между шайками, там случались настоящие войны – кровавые потасовки, в которых дети шести-семи лет дрались ножами и стреляли друг в друга из револьвера. Ребята постарше шутить тоже не любили... Я сумел продержаться в школе Уолша два года, пока папа не сообщил, что мы переезжаем. «Когда?» – жаждал я узнать. Он сказал, что не знает, но переедем мы обязательно.
Уже в семилетнем возрасте я понял, что папа в бизнесмены не годится; школьные принадлежности, дешевые романы и тому подобное приносили каждодневный доход и не более того. А с тех пор, как папа побывал на каторжных работах, его мучили головные боли – спустя годы их назвали мигренью. Особенно сильными приступы стали после смерти мамы. И были дни, когда из-за этого отец не открывал лавку совсем.