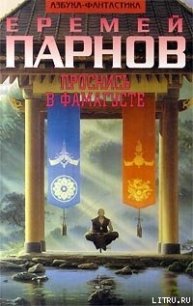Мальтийский жезл [Александрийская гемма] - Парнов Еремей Иудович (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Глава тридцать первая
АНАТОМИЯ МГНОВЕНИЯ
Алексей «ушел» в глубокий омут и не подавал признаков жизни. От матерых людей знал, что нужно продержаться хотя бы полгода, а там привычная текучка возьмет свое. Что же касается «чистых» документов, то он знал, как делаются подобные вещи, и примерно догадывался, куда следует обратиться по такой надобности. Так, на всякий случай, ибо не верилось до конца, что милиция выйдет на его след. Себя-то он ни с какой стороны не обозначил: ни тогда, когда отсиживался на хлебах у Протасова, таясь всякого постороннего глаза, ни там, среди колючих сосенок, под глухой завесой дождя. Вышло, конечно, не совсем ладно. Не стоило мараться на всю жизнь за полторы тысячи. Тревоги и хлопоты обойдутся дороже. Уж он-то всякого нагляделся за свои молодые годики и твердо усвоил немудреное правило: жить надлежало только сегодняшним днем. Завтра — штука обманчивая. Оно никому не гарантировано.
В первый раз Алексей попал за колючую проволоку, когда ему едва исполнилось восемнадцать лет. По-глупому, по-пустому. За пьяную драку, в которой кто-то кому-то пробил череп отрезком водопроводной трубы. Не до смерти, но вполне квалифицированно.
С той поры и началось его переучивание. Вернее, волчье натаскивание, потому что школьные годы не оставили в душе почти никакого следа.
Нельзя сказать, что у Алеши, вполне нормального мальчика и среднеуспевающего ученика, не было принципов и убеждений. Такое вообще едва ли возможно в человеческом обществе. Но это были дурно усвоенные убеждения и безжалостно искромсанные принципы, большей частью противопоставлявшие узко групповые интересы общественным. Даже не столько противопоставлявшие, сколько бездумно игнорировавшие их, словно, кроме кучки избранных — в рамках подъезда, двора, школьного класса, — ничего вокруг не существовало. Примерно по такой схеме определял свое место в мире первобытный человек, для которого все многообразие бытия сводилось к жесткой полярности: свои и чужие. Среди «своих» царила гармония с законами и строго упорядоченной иерархией, с «чужими» дозволялось абсолютно все. Они были «добычей», эти чужие, подчас легкой, но большей частью опасной. В этом случае разумнее было обойти их стороной. Держать данное слово, быть великодушным и щедрым, защищать слабого — все эти прекрасные порывы как бы заранее предназначались только для «своих», только для внутреннего употребления. И такие понятия, как «вина», «грех», — тоже. Обмануть хитроумным коварством врага почиталось доблестью.
Умонастроения тесно сплоченной компашки, в которой Алексей благодаря незаурядной физической силе и дерзости вскоре занял ведущее положение, вполне укладывались в столь примитивный кодекс, «первобытный» в смысле этической праосновы, потому что в остальном Алексей и соучастники его молодецких забав были болезненно привержены к последним веяниям ультрамодерна. Не в изобразительном искусстве или архитектуре, к которым были вполне равнодушны, а, скорее, в специфической сфере быта. Шарф с цветами любимой команды, часы с миниатюрным калькулятором, грохот и мигающие огни дискотеки, безусловно, составляют зримые приметы современности. Но было бы абсурдом свести к ним или еще каким-то немногим признакам безмерную сложность века, стремительно меняющего внешние формы, обремененного, кроме всего прочего, непомерной ответственностью за бесценное историческое наследство, такое уязвимое, хрупкое перед лицом затаившейся смерти. А вот ограничить оказалось возможно: кинофильмами и книгами, главный герой которых шпион, преуспевающий, упоенный вседозволенностью, уже по самой природе своего ремесла вынужденный быть оборотнем. Тотемные значки пресловутой «массовой культуры», тесно соседствующей с «контркультурой», превратились чуть ли не в самоцель, сделавшись объектами массовой погони. Охота за фирменной этикеткой на кармане куртки или на джинсах стереотипно соединилась с пристрастием — чисто снобистским — к автомобилям, желательно иномарочным.
Первая модель менялась на третью, восьмая — на особо престижную двенадцатую. Алексей, наметивший для себя карьеру механика автосервиса, воспринимал естественное для человека стремление к совершенству как непрерывную смену этикеток, сверкающий парад ярлыков.
В колонии строгого режима у него оказалось достаточно времени, чтобы произвести хотя бы некоторую переоценку ценностей. Но, избавившись от кое-каких жалких остатков совести, он остался на прежних позициях. Поэтому, сблизившись с уголовной шпаной, работавшей под «воров в законе», скоро проникся ее романтической гнильцой и покорно дал изукрасить себя подобающей татуировкой. Выбившись таким манером в лагерную аристократию, Алексей с удовлетворением ощутил, что жить можно даже за проволокой. Решив перехитрить всех и вся, он дал себе зарок соглашаться только на «верные» дела, словно такие существовали в природе. По-видимому, какая-то глубоко затаенная опаска подсказывала ему, что полулегальные заработки в автосервисе все же предпочтительнее откровенного криминала. На худой конец, профессия механика могла послужить надежным прикрытием. Частную активность в сфере сантехники или, допустим, шабашничество он почитал не вполне респектабельными.
Не удивительно, что, выйдя на свободу, Алексей пошел на поводу у новых друзей и вновь очутился на скамье подсудимых.
На сей раз его судили за кражу музейных ценностей. Видно, что-то оказалось не так в тщательно отработанной схеме, хотя дело и рисовалось верным — наводка была, и дружки подобрались, надежней не бывает, один к одному. В итоге еще восемь лет, клеймо рецидивиста и мрачная перспектива стать лагерным завсегдатаем — Алексей встретил одного такого в пересыльной тюрьме. Из своих тридцати семи нескладно прожитых лет он пробыл на воле только шестнадцать. Было, от чего загрустить.
Именно в этот период душевных распутий набрел Алексей на Максима Артуровича, человека иной совершенно касты, птицу полета высокого.
И надо же случиться такому, что в тяжелую пору, когда прокладывали трассу через сплошную болотную топь, Алексей сумел уберечь столь важную персону от глупой промашки, чреватой, однако, всякими осложнениями. Максим Артурович услуги не забыл и, предварительно присмотревшись, приблизил к себе смышленого паренька, стал учить его уму-разуму.
— Считай, что в рубашке родился, — заметил по этому поводу Алешкин сосед по нарам. — Это знаешь какой делец? Нам с тобой и не снилось, что он проворачивает. Истинно туз! Будешь как сыр в масле кататься. Только не оплошай ненароком. Ведь одно дело понравиться, другое фарт удержать, а это нашему брату особенно нелегко, сорваться можно…
Алексей не сорвался, став для Максима Артуровича телохранителем, и существование его в сравнении с прежним облегчилось, хотя все восемь лет пришлось отбыть от звонка до звонка. А за это время Максима Артуровича и след простыл.
На прощание патрон — так он наказал себя величать — оставил лишь меховой жилетик, который так сподручно оказалось надевать под ватник, и бумажку с телефоном. Поддевочку, правда, отобрали при первой же проверке — не положено, — но бумажка сохранилась.
Оказавшись на свободе, Алексей позвонил Максиму Артуровичу по междугородному, как только добрался до ближайшего переговорного пункта. Но то ли патрону было не до него, то ли трудности какие встретились, только свидеться с солагерником он почему-то не пожелал. Вместо торжественной встречи сразу переадресовал Алешу к директору гастронома Протасову, с которым имел дела. Первая встреча состоялась на станции Синедь, где у Вячеслава Кузьмича строилась дача из ядреного соснового бруса, способного противостоять даже сибирским морозам и вечной мерзлоте.
— Что же мне делать с тобой? — озаботился Протасов, придирчиво изучив документы. — В Москве проживать тебе, сам знаешь, запрещено, а вне столицы, уж извини, ты мне просто не нужен… Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Поживи пока тут. Заодно и домик постережешь, чтоб не спалили ненароком, — рассыпался он мелким натужным смешком. — Это я так, шучу! Но за материалом смотри в оба.