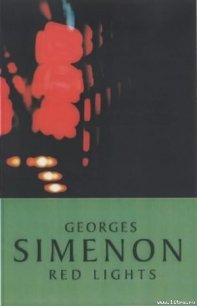Тюрьма - Сименон Жорж (книги онлайн полностью .TXT) 📗
Никогда они не вели семейного образа жизни! На их вилле — это было переоборудованное Аленом старинное каменное здание, бывшее жилище богатого фермера или средней руки помещика, — каждый уик-энд превращался в подобие вавилонского столпотворения, так что наутро хозяева и гости нередко затруднились бы ответить, в чьей постели или на каком диване они провели ночь.
— Привет, Борис.
Малецкий посмотрел на него взглядом оценщика, словно прикидывая, крепко ли еще патрон стоит на ногах.
— Тут тебя свояк спрашивал по телефону, просил позвонить.
— Домой?
— Нет. В банк.
— Экий надутый кретин!
Он любил повторять, что терпеть не может надутых кретинов. Кретины выводили его из себя.
— Соедини-ка меня с Французским банком, крольчонок. Да, да, с главной дирекцией, на улице Ла Врийер. Вызови господина Бланше.
Вошел с бумагами секретарь редакции Ганьон.
— Я помешал?
— Отнюдь. Это мне?
— Нет. Я хотел посоветоваться с Борисом насчет одной статейки: я не совсем в ней уверен.
Алена сейчас это не интересовало. Сегодня среда, 18 октября. Он без труда вспомнил дату, потому что вчера был вторник-17-е. Но все началось вечером, а в этот час он сидел в своем кабинете, где сидит сейчас Борис, потом поехал в типографию на авеню Шатийон, и во всем мире для него существовало и имело значение только одно — очередной номер журнала «Ты».
— Господин Бланше у телефона. Он нажал кнопку на аппарате.
— Ален слушает.
— Я звонил тебе, потому что не знаю, как поступить. Приехал отец Адриены. Он остановился в отеле «Лютеция».
Ну, разумеется! Как всякий уважающий себя интеллектуал из провинции или из-за границы!
— Он хочет видеть нас обоих.
— Обоих? Почему?
— У него же было две дочери! Одной больше нет, другая в тюрьме.
— Во всяком случае, я пригласил его сегодня вечером к себе на ужин — не можем же мы идти в ресторан. Но я сказал, что окончательно мы договоримся о встрече, когда я созвонюсь с тобой.
— Когда он придет?
— К восьми. Наступило молчание.
— Тело Адриены выдадут завтра. Похороны можно назначить на субботу. О похоронах он забыл.
— Хорошо. До вечера.
— Ты ее видел?
— Да.
— Она что-нибудь сказала?
— Попросила у меня прощения.
— У тебя?
— Ты удивлен? Однако это правда.
— Что предполагает следователь?
— Он держит свое мнение при себе.
— А Рабю?
— Я не сказал бы, что он в большом восторге.
— Он согласился взять на себя защиту?
— Сразу же. Как только я с ним заговорил.
— До вечера.
— До вечера.
Он взглянул на Бориса, вполголоса обсуждавшего с Ганьоном сомнительную статью. А что, если пригласить какую-нибудь машинистку или телефонистку — из тех, с кем ему уже случалось переспать, — и закатиться с ней на всю ночь в первую попавшуюся конуру?
Нет, людям свойственны предубеждения, и она может отказать.
— До скорого. Верней, до завтра.
Всего четыре часа. Он зашел в «Колокольчик».
— Двойное виски?
Пить не хотелось. Он машинально кивнул.
— Двойное? Да, крольчишка, разумеется.
— Вы ее видели?
Бармен знал Мур-мур. Да и как мог не знать — Мур-мур знали все: она неизменно сидела за стойкой справа от мужа, локоть к локтю.
— Какой-нибудь час назад.
— Очень она угнетена?
— Ей не хватает только доброго глотка виски.
Бармен не понял, шутит Ален или говорит всерьез. Что, озадачили тебя? Может, даже возмутили? Так тебе и надо! Ошарашивать, шокировать, вызывать возмущение- это вошло у Алена в привычку. Когда-то он делал это нарочно, но за столько лет привык и теперь уже не замечал.
— Похоже, дождь скоро перестанет.
— А я и не заметил, что он идет.
Он еще с четверть часа просидел, облокотясь на стойку бара, потом вышел, сел в машину и поехал по Елисейским полям. Подъезжая к Триумфальной арке, увидел, что небо и впрямь посветлело, теперь оно было отвратительно-желтого, какого-то гнойного цвета.
Ален свернул на авеню Ваграм, затем на бульвар Курсель. Но оттуда поехал не налево, к себе, а поставил машину в дальнем конце бульвара Батиньоль.
Загорались огни световых реклам, вывески. Площадь Клиши была хорошо знакома ему, он мог бы рассказать, какой она бывает ночью и какойднем, в любое время суток: в часы «пик», когда становится черной от человеческих толп, изрыгаемых и заглатываемых входами метро, и на рассвете, в шесть утра, когда ее пустынное пространство отдано во власть подметальщиков и бродяг; он знал, как она выглядит зимой, летом, при любой погоде — в солнечный день, под снегом, под дождем.
За восемнадцать лет, что Ален смотрел на нее в окно своей комнаты, она намозолила ему глаза до тошноты. Вернее, за семнадцать: первый год жизни не в счет, он не доставал головой до подоконника и, кроме того, не умел ходить.
Он свернул в неширокий проход между бистро и обувным магазинчиком. Табличка на двери — сколько он себя помнил, все та же — оповещала:
Оскар Пуато
Зубной врач-хирург
(3-й этаж, направо)
Каждый день, возвращаясь сначала из детского сада, потом из начальной школы и, наконец, из лицея, он видел эту табличку и на восьмом году жизни поклялся: будь что будет, но зубным врачом он не станет. Ни за что.
Он не решился подняться на лифте, который раза два в неделю непременно портился, так что бедные пассажиры застревали между этажами.
Тяжело ступая, он поднимался по лестнице, на которой не было ковровой дорожки, миновал площадку бельэтажа с выходившим на нее кабинетом мозольного оператора, затем на площадку второго этажа, где в каждой комнате ютилось агентство или бюро какого-нибудь жалкого, а то и сомнительного предприятия.
Все годы, сколько он себя помнит, в доме была по крайней мере одна контора ростовщика. Ростовщики менялись, жили на разных этажах, но не переводились.
В нем не всколыхнулось никаких чувств. Детские воспоминания не вызывали у него сентиментальной растроганности. Напротив, Ален ненавидел свое детство и, если бы мог, стер его из памяти, как стирают мел со школьной доски.
Он не питал неприязни к матери. Просто она была ему почти таким же чужим человеком, как его тетки, которых он мальчиком видел обычно раз в год, летом, когда отец с матерью отправлялись в гости к родителям, жившим в Дижоне.
Деда с материнской стороны звали Жюль Пармерон. Его имя и фамилия красовались на вывеске кондитерской. Тетушки были все одного калибра: приземистые, широкие в кости, с неприветливыми лицами. Улыбались они краешком губ и чуть слащаво.
Он вошел в столовую, которая одновременно служила и гостиной. В настоящей же гостиной была устроена приемная, где ожидали своей очереди больные. Он втянул носом знакомый с детства запах, услышал доносившееся из кабинета отца жужжание бормашины.
Мать, как всегда, была в переднике, который она поспешно сдергивала с себя, идя открывать дверь посторонним. Ален наклонился — он был намного выше матери — и поцеловал ее сначала в одну щеку, потом в другую.
Она не решалась взглянуть ему в глаза.
— Я так расстроена, так расстроена!.. — бормотала она, входя в обставленную громоздкой мебелью столовую.
«Уж, во всяком случае, не больше, чем я», — чуть не сорвалось у него с губ, но это было бы чересчур непочтительно.
— Когда отец утром за завтраком взял газету и увидел, что написано на первой странице, он не смог проглотить больше ни куска.
Хорошо еще, что хоть отцу не вырваться сейчас надолго из кабинета; пациенты идут один за другим — по четверти часа на человека.
— Прополощите. Сплюньте.
Мальчишкой он иногда подслушивал у дверей.
— А это больно?
— Ну, что вы! Не думайте, тогда и боли не будет. Вот как? Значит, и Алену достаточно просто перестать думать?
— Но как это могло случиться, Ален? Такая милая женщина…
— Не знаю, мама.
— Может быть, это из ревности?
— Никогда не замечал, чтобы она ревновала. Мать наконец осмелилась взглянуть на него, робко, словно боясь увидеть, как он изменился.