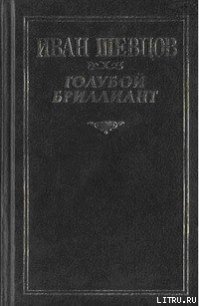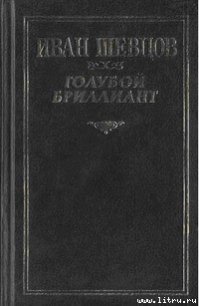Голубой бриллиант - Шевцов Иван (лучшие книги онлайн TXT) 📗
В день встречи с Машей Алексей Петрович надел темнокоричневую рубаху и такого же цвета брюки. Поверх рубахи — белый шерстяной свитер. Статный, поджарый, не потерявший спортивную форму, он выглядел гораздо моложе своих лет. Он метался из комнаты в комнату, потом решил пропылесосить весь дом, посматривая на часы. А время сегодня почему-то тянулось очень медленно. В зале он обратил внимание на тумбу, где стояла «Первая любовь», проданная за валюту. Теперь она напоминала ему постамент, с которого сбросили бронзового истукана Свердлова. «Не хорошо: на самом почетном месте пустая тумба. Надо что-то поставить», — подумал Алексей Петрович и пошел в спальню. В спальне на подвешенной к стене полочке стоял уменьшенный в размере фарфоровый вариант горильефа «Женский пляж», который украшал танцевальный зал южного санатория, где однажды отдыхала Маша и где произошла ее встреча с отцом Настеньки. Композиция «Женский пляж» была единственной работой Иванова в жанре рельефа. И несомненно удачной. Делалась она по персональному заказу для южного санатория. Он не сразу согласился выполнить такой заказ. Перед заказчиком он ставил условие: его произведение будет исполнено в сугубо реалистическом плане. В нем не будет модной сейчас декоративности, абстракции и вообще современной чертовщины. Заказчик согласился без слов. Для себя Иванов сделал уменьшенную в размерах копию, а друзья исполнили ее в фарфоре в единственном экземпляре и подарили Алексею Петровичу в день его шестидесятилетия.
Сейчас, глядя на этот горельеф, Иванов вдруг неожиданно открыл для самого себя всю прелесть и неповторимую художественную находку. «И почему она стоит здесь, в темном углу спальни, а не в зале, где выставлены лучшие работы?» — спросил Иванов себя с недоумением и, не раздумывая, перенес композицию в зал и водрузил на тумбу, на которой многие годы возвышалась «Первая любовь».
Алексей Петрович был возбужден и не мог объяснить самому себе причину такого непривычного для него состояния. Обычно спокойный, сдержанный и ровный, он обнаружил в себе смутное ощущение чего-то нового или давно позабытого, но вдруг пробудившегося и желанного. Трепетное ожидание оборвал звонок в прихожей. Он вздрогнул и торопливо направился к двери, всего на какой-то миг задержался у зеркала и смутился, увидав свое лицо розовым.
Да, это была Маша. В расклешенном трапециевидном пальто золотистого цвета с отделанными черным мехом манжетами, и таким же воротником и норковой шапке-ушанке тоже черной, как черный шарф. Она остановилась у порога как бы в нерешительности и, преодолевая смущение, сказала негромким, певучим голосом:
— Здравствуйте, Алексей Петрович. Это я. Можно?
Порозовевшее то ли от легкого морозца, то ли от волнения ее открытое лицо озаряла подкупающая улыбка.
— Не только можно, очень желательно, — мягким голосом ответил Иванов и сделал выразительный жест в сторону распахнутой двери: — Прошу вас.
Его приятно поразило элегантное пальто, строгий, легкий, свободный покрой и золотистый цвет, удачно гармонирующий с черным мехом высек в памяти Иванова когда-то прочитанные и запавшие в сознание поэтические строки: «Золото с чернью, золото с чернью в небе чеканет Луна…» «Золото с чернью», — мысленно повторил он, помогая Маше снять пальто. Он обратил внимание на ее тоже черные сапоги и черную юбку, на свитер удивительной расцветки, где черное постепенно переходило в дымчатое, потом немного светлей и наконец в светлое. «Ее любимый цвет», — решил Алексей Петрович, провожая Машу в гостиную. Он предложил ей сесть, но она попросила позволения осмотреть расставленные вдоль стен его работы. Взор ее почему-то сразу же, как только вошла в комнату, привлек горельеф «Женский пляж». Она смотрела на эту композицию с каким-то детским непосредственным восприятием, большие, очерченные легкой тенью глаза ее то щурились, то изумленно округлялись, излучая тепло и ум.
— Какая прелесть, — она как бы выражала мысль в словах, не отводя глубоко проникновенного взгляда от горельефа. — Кто автор?
Теперь она повернула лицо к Иванову.
«Ей нравится — это же замечательно, — мысленно решил Иванов. — Да это небесное создание, видимо, наделено природой тонким вкусом». Вслух ответил:
— Ваш покорный слуга.
— Боже мой, что ж это такое! — воскликнула она и закусила губу. — Это ж моя любимая картина. Алексей Петрович, скажите, а в санатории на юге… — она недоговорила, устремив на Иванова изумленный взгляд, в котором было и робкое смятение.
— Да, там, в санатории, оригинал, а это копия, — ответил Алексей Петрович и спросил, глядя на нее с приятным изумлением: — Вы были в том санатории? Вы видели мой рельеф? Он цел, его не выбросили?
— Да что вы? Как можно! Это же шедевр, классика. Отдыхающие восхищаются — все, до единого. Я свидетельствую. Разве кто посмеет поднять руку на великое творение.
— Ну, вы преувеличиваете, — смутился он. — Вещь получилась, мне она нравится. А вам я очень признателен за добрые слова, которых я не заслужил, но… постараюсь оправдать ваш аванс, — он сделал паузу, распрямил плечи и закончил смутившись: — с вашей помощью.
Маша не приняла намека, возможно, не поняла, рассматривая фарфоровый вариант. В фарфоре эта композиция несколько проигрывала, в бронзе она смотрелась гораздо эффектней. Она вспомнила, как тогда в санатории приняла этот рельеф за античную копию, как подумала тогда, что только древние греки умели боготворить женщину, преклоняться перед ее божественной красотой. «Оказывается, среди современных мужчин встречаются еще такие, чудом сохранившиеся в век духовной деградации общества», — мысленно произнесла она, а вслух сказала:
— Сколько же здесь поэзии и грации! Вы как ее назвали?
— «Женский пляж», что ли, — неуверенно обронил Иванов, потому что никак не называл свой рельеф.
— Ну что вы? Это слишком приземленно. Лучше уж «Три грации».
— Уже было, — ласково ответил Иванов.
— Ну и что? У вас свои грации. В названии должна быть поэзия. — Она сделала ударение на последнем слове. — Назвали ж вы девичий портрет «Первой любовью». Кстати, где он? Я хотела еще раз посмотреть, но выставка закрылась. Он у вас? Ну, эта «Первая любовь»?
Неожиданный вопрос смутил Алексея Петровича.
— Продал, — вздохнул он, и невинная улыбка заиграла на все еще розовом от возбуждения лице. Он испытывал неподдельную и необъяснимую радость от встречи. Повторил: — Иностранцу продал, за доллары.
— Продали первую любовь? — с деланным удивлением переспросила Маша, но в голосе ее не было осуждения, только в больших блестящих глазах играл лукавый огонек.
Иванов понимал, что подразумевается не название скульптуры, а первая любовь без всяких кавычек и как в оправдание и тоже с дружеской улыбкой прибавил: — Да ведь и мою первую любовь предали. Так что получилось «око за око». В жизни так устроено: как аукнется, так и откликнется. — Он ждал, что Маша поинтересуется, в какую страну уплыл портрет ее матери и за какую цену. Но Маша не спросила. С большим интересом она продолжала разглядывать другие работы, мысленно повторяя: «Все женщины, женщины, все обнаженные и прекрасные. И никакой пошлости, все изящно, целомудренно». Ей нравилось. Она вспомнила слова матери, делившейся впечатлением от работ Иванова: «Одни женщины и все голые. Странный какой-то он, Алексей: помешался на голых бабах. Ненормальный». В словах Ларисы Матвеевны звучало определенное осуждение. Маша была иного мнения и о самом скульпторе, и о его работах: ей все нравилось, более того, она искренне восторгалась, хотя и пыталась сдерживать свой восторг. Вообще по своему характеру внешне она была сдержанна и не выплескивала наружу свои эмоции по поводу и тем более без повода, и ее душевное состояние выдавали лишь чувственные резко очерченные губы да живительный свет ее блестящих глаз.
— У вас тут настоящий музей, — сказала Маша, одарив Иванова мимолетной улыбкой. — И все это богатство спрятано от людей. Жаль. А мне повезло, я увидела настоящее искусство, катакомбное, если можно так выразиться. Я слышала, что существует какая-то «катакомбная» церковь?