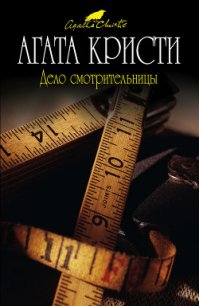Тогда ты услышал - фон Бернут Криста (лучшие книги онлайн txt) 📗
— Госпожа Корнмюллер…
— Минутку, я сейчас.
Госпожа Корнмюллер проворно расставила чашки, налила кофе, себе и мужу добавила молока и сахару, а потом пододвинула кувшинчик и сахарницу к Моне.
— Угощайтесь, девушка. — Голос ее прозвучал хрипло и одновременно как-то певуче, как у простуженного дрозда.
— Спасибо, — сказала Мона.
Она действительно могла бы и не ехать сюда. Альфонс Корнмюллер, кажется, не замечал ее присутствия. Он взял чашку и стал пить кофе маленьким глотками. Его шея была такой худой и жилистой, что было видно, как он глотает. Сине-серая рубашка в одном месте выпросталась из габардиновых штанов, подтяжки перекосились. Он по-прежнему носил усы, закрывающие его рот почти полностью, но по сравнению с фотографией в журнале они казались потрепанными и поредевшими. Взгляд постоянно блуждал, как будто искал что-то, за что можно было бы зацепиться.
— Господин Корнмюллер! — обратилась к нему Мона.
Никакой реакции.
— Господин Корнмюллер! Мне хотелось бы с вами поговорить. Вы не возражаете?
Снова ничего в ответ.
В поисках подсказки Мона повернулась к госпоже Корнмюллер, которая теперь сидела на самом краешке стула. На ней был передник в цветочек, сшитый, вероятно, еще в шестидесятых годах прошлого века.
— Госпожа Корнмюллер, вы не поможете мне?
Пожилая женщина улыбнулась, как будто хотела сказать: «Ну вот видите, я же вам говорила», — но именно этого она и не сделала. Впервые Моне пришла в голову мысль, что, вполне возможно, она просто использовала шанс хоть немного пообщаться. И это в принципе понятно, но не в этой ситуации, в которой Мона просто не может себе позволить терять время. Не говоря уже о том, что воздух в слишком сильно натопленной и заставленной некрасивой мебелью комнате был удушливым.
— Госпожа Корнмюллер, или помогите мне поговорить с вашим мужем, или мне, к сожалению, придется уехать. Мне очень жаль, — добавила Мона, потому что госпожа Корнмюллер внезапно так забеспокоилась, как будто Мона на нее накричала.
Может быть, и у нее уже не все дома.
— Милый! — обратилась госпожа Корнмюллер к мужу.
Она наклонилась к нему близко-близко и взяла за морщинистую худую руку.
— Милый, тут девушка приехала, хочет с тобой поговорить.
Постепенно бегающие глаза старика успокоились.
— Милый, ты видишь эту девушку? Она хочет поговорить с тобой о твоем ученике. Она хотела бы знать, помнишь ли ты его.
Голос у нее мягкий, говорит она терпеливо и трогательно нежно. Она знает своего мужа уже в течение полувека, и, тем не менее, в их отношениях не ощущается скука, нет раздражения, только дружеская поддержка. И внезапно Мона почувствовала, как вся ее нервозность исчезла. Это снятие показаний будет трудным, и вполне может статься, что и безрезультатным. Но какая разница! Есть более неприятные вещи. Например, когда любимый человек медленно уходит в поля блаженных, куда нельзя за ним пойти.
— Милый! — снова сказала госпожа Корнмюллер, на этот раз энергичнее.
Она пожала его руку и слегка встряхнула.
— Иногда его нужно заставлять возвращаться, — пояснила она Моне. — Но у него получится. Иногда он просто немного ленится. — Она улыбнулась, и Мона невольно улыбнулась в ответ.
— Ничего страшного, если не получится.
— Получится, если вы наберетесь терпения. Просто назовите имя ученика. Может быть, он на него среагирует.
— Роберт Амондсен, — послушно сказала Мона. Ничего не произошло.
— Еще раз. Скажите имя громче. Он слышит довольно хорошо, но…
— РОБЕРТ АМОНДСЕН!
Старик резко выпрямился и, кажется, впервые действительно увидел Мону. Его глаза перестали моргать. Он посмотрел прямо на нее, и Мона попыталась удержать его взгляд, чтобы не рассеялось его внимание.
— Роберт Амондсен был одним из ваших учеников. — Она вынула из сумки журнал и поспешно открыла страницу, на которой была фотография Амондсена и Корнмюллера. — Посмотрите. Это вы с Робертом Амондсеном.
Корнмюллер взял журнал и стал внимательно разглядывать фотографию. Наконец он стал листать дальше, пока не дошел до той страницы, где было написано об его уходе. Он старательно, как первоклассник, прочел заголовок: «Ницше уходит».
— Ницше. Это вы.
— Это из-за его усов, — сказала госпожа Корнмюллер. Она стояла рядом с мужем и смотрела через его плечо. — У Ницше были такие же огромные усы.
— Да-да, — буркнула Мона, не отрывая взгляда от Корнмюллера.
Она совершенно не представляла, как дальше действовать. Дать ли ему спокойно подумать или он тогда снова может впасть в прострацию?
— Вы помните то время, когда вас называли Ницше?
— Заратустра, — произнес наконец очень спокойно Корнмюллер.
— Простите?
— Заратустра был основателем иранской религии. Ницше описывает его как одиночку, который однажды вышел к людям, чтобы поделиться с ними своими познаниями.
— Что?
— Чтобы они состоялись, по крайней мере, как звери. Но зверям свойственна невинность. Говорю ли я вам: убейте свои чувства? Я говорю вам: вернитесь к чувству невинности.
— Амондсен, — сказала Мона. — Роберт Амондсен. Что вы знаете о нем?
— Разве я говорю вам о непорочности? У некоторых непорочность — это добродетель, но для многих почти бремя. Да, они воздерживаются, но сука чувственность проглядывает из всех их поступков. А как хорошо умеет сучка чувственность выпрашивать кусочек духа, если ей отказывают в кусочке плоти. — Корнмюллер поднялся и стал вещать громко, во весь голос. Он поднял правую руку и указал на стену за собой, как будто там была доска. — На дне ваших душ — омуты; и горе вам, если у вашего омута еще есть душа. Кому трудно дается непорочность, тому она не нужна: она может стать вашей дорогой в ад.
— Он тогда им это говорил, — прошептала госпожа Корнмюллер.
— Ницше был одним из самых несчастных людей. Он не умел обращаться с другими людьми, был очень чувствительным и страдал от болезней. И тем не менее он создал труд, которому нет равных…
— Милый… — попыталась остановить его госпожа Корнмюллер.
— У какого ребенка не было повода плакать над своими родителями?
— Что он хочет этим сказать?
— Это Заратустра, — ответила госпожа Корнмюллер. — Он любит его цитировать.
— Ницше был не только великим философом. И не важно, что некоторые из его трудов сегодня подвергают критике, например, тезис Заратустры о сверхчеловеке, который был многими превратно понят. Совершенно превратно, но сейчас это никого не волнует. Он также был великолепным лириком, стилистом высокого уровня…
— Милый, прошу тебя. Эта дама хочет кое-что узнать об одном ученике. Ты знал его.
Но Мона заметила, что ее слова никак не повлияли на Корнмюллера. Он действительно погрузился в прошлое, но не туда, где он мог быть полезным.
— Альфонс тогда непременно хотел уйти на пенсию, — сказала госпожа Корнмюллер. — Он мечтал выращивать розы. «Наконец-то в мою жизнь вернется покой», — говорил он. Но потом он сильно заскучал за всем. Вы должны знать: он был учителем от Бога. Таких, как он, теперь нет…
— Да. Я понимаю.
— Мне кажется, эта рана так никогда и не зажила.
Корнмюллер снова сел. Выглядел он возбужденным и уставшим, как после сильной физической нагрузки. Постепенно его голова упала на грудь. Глаза с тонкими, как пергамент, веками в старческих пятнах, закрылись, словно сами собой.
— Он больше не с нами, — сказала госпожа Корнмюлер.
Она все еще стояла за его спиной, удрученно положив руки на поникшие плечи мужа.
— Наверное, нет смысла пробовать еще раз, — предположила Мона.
— Нет, я думаю, не стоит. Видите ли, тогда было кое-что…
— Да?
— Кое-что, что заставило его уйти на пенсию намного раньше, чем он изначально планировал.
— Вы что-нибудь знаете об этом?
Госпожа Корнмюллер покачала головой и присела к чайному столику.
— Это было как-то связано с несколькими учениками. Они… плохо вели себя… что-то такое. Но им ничего не было. Может быть, эту историю замяли, я, к сожалению, не знаю. Альфонс никогда не хотел со мной об этом говорить. Но с тех пор он изменился.