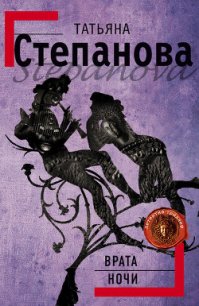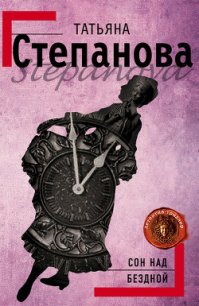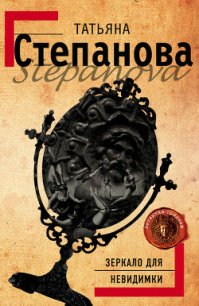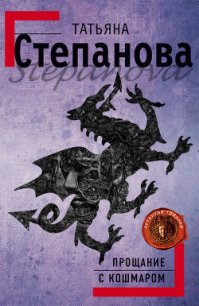В моей руке – гибель - Степанова Татьяна Юрьевна (библиотека книг .TXT) 📗
– Может, ты не помнишь, что с тобой было?
– Я все помню. Все! Ну, что со мной было? Отчего ты таким трагически-дурацким голосом это шепчешь? Что со мной было?
– Я видела пленку, когда тебя задерживали. Это жуткое зрелище.
– Я придушил шавку – господи, ты боже мой! – Степан снова дернул руки. – Она сама на меня бросилась, эта тварь. Что, надо было ждать, когда она кишки мне выпустит?
– Но ты и раньше это делал. Разве не правда? И не только с собаками. И тебе ЭТО нравилось.
– А ты что, из общества защиты природы, что ли?
– Для чего ты убивал животных?
– Все равно вы этого не поймете, ни ты, ни эти твои… Я хотел испытать себя, исправить кое-что в себе. Человек изуродован цивилизацией, пойми ты! Мы – вырожденцы, слабые, хилые, больные, трусливые. Мы как дети – брось нас, и мы подохнем. Но разве человек был таким создан изначально? Да он и разумным-то стал только потому, что всегда был хищником – любил свежую кровь, мясо, жаждал свободы, охоты. Леса, горы – вот был его мир, его привычная стихия, города появились потом, прошло много тысяч лет и… Человек жил как бог – вступал в битву, когда хотел жить, шел по следу, охотился, убивал, когда хотел жрать. Человек был самим собой, а не жалким выродившимся подобием…
И я хотел себя испытать. Прежде чем учить других, я хотел понять все сам. Постичь этот мир, который никто из вас уже постичь не способен. Если бы ты могла узнать то, о чем меня спрашиваешь! Как дышится там ночью, какие запахи, звуки, какие соблазны, какое там небо, как там хорошо…
– Где там? В чаще? В лесу? В медвежьей берлоге? – Катя смотрела на его лицо: углы рта начинают подергиваться, словно нервный тик пошел… Не слова, а сам тон, манера говорить – что-то в нем действительно изменилось с тех пор, что они не виделись. Она отвела взгляд. Помнится, когда она училась в университете, их водили в Институт им. Сербского на лекции по судебной психиатрии. И там один душевнобольной, тоже молодой, здоровый парень, с таким же жаром и душевным подъемом описывал свое состояние: у него в груди – мина с часовым механизмом. Захочет – Москву взорвет ко всем чертям. Не трогай, не трогай, шарахнет! Помнится, он обстоятельно объяснял, почему он так уверен, что мина – в нем. ТАКИЕ все могут объяснить. И весьма красноречиво и убедительно…
– Лиза мне рассказывала про тот твой сон, – сказала она тихо, потому что он молчал. – Медведь тащит женщину в чащу… А я на нее похожа?
– Нет, – он смотрел в пол. – Совершенно не похожа.
– А тот медведь в твоем сне был ты? – Косноязычный, странный вопрос, но Катя знала: уж он-то поймет ее как надо, потому и задала очень серьезно.
– Нет, никогда.
– Это был бурый старый медведь, да? Он жил в старом доме… там, на даче. И порой ему очень хотелось уйти оттуда, он был как в клетке, и он уходил… в лес, да? В ту самую чащу из сна?
Базаров молчал. Лицо его пошло красными пятнами. Катя тщетно ждала ответа. Потом задала новый вопрос, тоже повисший в гробовой тишине:
– ЗАЧЕМ ТЫ УБИВАЛ ЛЮДЕЙ?
ПАУЗА. Она слышала его дыхание.
– Или их убивал тот медведь? Тот, что жил на даче, тот, чья шкура… чью шкуру ты…
Он резко вскинул голову. Губы его кривились. Но тон был спокойным, даже насмешливым:
– Я в камере сейчас сижу с двумя… КАТЬ, ХВАТИТ ОБ ЭТОМ. ХВАТИТ, Я СКАЗАЛ!! Слушай теперь меня… Так вот, я в камере сижу с двумя хмырями. Один целыми днями байки травит, сколько раз он с бабами может, какая следовательша у него по делу мировая-медовая, какое у нее декольте до пупка. И что, мол, рано или поздно прижмет он ее спиной к полу – доведет, мол… А второй… Второй утверждает, что тоже по расстрельной сидит. Косить вроде под дурака задумал. Мне завидует – тебе, мол, и косить не нужно, врачи и так подтвердят… Втолковывает все мне, признаваться склоняет: чем больше, мол, на себя возьмешь, чем чуднее по-психически объяснишь, что делал и почему, тем меньше, мол, веры потом на суде будет. С психа-то какой спрос? Целыми днями меня вот так обрабатывают с двух сторон. Так вот, Катя. Хватит тебе пристяжной в этой сучьей тройке быть. Со мной ЭТО не пройдет, ясно? Я сказал – баста! Так и передай своим этим… Я все понимаю. Все. И со мной вот такое бесполезно, эти ваши сволочные подходцы… Я ученый, знаю, как и что. Передай: пусть заберут из камеры обоих. От греха. Иначе… иначе это первые будут, которых я завалю.
Катя замерла.
– Что ты хочешь сказать?
– Ты, Димка говорил, в ментовке этой не первый год: шевели мозгами – поймешь.
– Ты хочешь сказать, что сокамерники будут первыми… Что ты до сих пор никого не убивал, что ли?
Базаров откинулся на спинку стула.
– Я НИКОГО НЕ УБИВАЛ. Никого, ясно тебе? Дрался – да, учил дураков – да, но убивать… Не потому, что я слабак, а потому, что… Я Димке матерью нашей поклялся в этом, а он… Ладно, стерплю. Он спасти меня хочет от вышки, адвоката-придурка слушает. Дурака из меня сделать полного хотят, что взять с больного-шизика – мозг, видишь ли, у меня травмирован… А я здоров, ясно вам?! Врач еще тогда, в больнице, мне сказал – полностью здоров, парень. Я и чувствую себя здоровым, всех вас, вырожденцев, переживу еще, – он скрипнул зубами. – И что мое – во мне. Я не хочу об этом больше говорить. Ни с кем. Это во мне, со мной и умрет. А остальное…
– Где Лиза? – Катя встала. – Ты и ее, значит, не трогал? Тогда где же она?
– Не знаю я! Зачем мне было ее трогать? Эту дуру, эту распутную грязную истеричку… Да если бы я только захотел, у меня бы таких, как она, – от Москвы до Питера очередь стояла… А зачем мне было убивать этих… я даже, кто они такие, не знаю – суют под нос на допросах фотографии каких-то дохляков… Я не идиот, поймите же вы, я не совершаю бесцельных поступков! Для чего мне было убивать этих незнакомых людей? Ну зачем, для чего, скажи, ну?!
– Разве кровь у нас и животных не одна и та же на вкус? Ты же сам признался – кровь тебе по вкусу. – Кате резануло слух, что он вот так сказал про Лизу: господи, что за человек? Ему ее даже не жаль.
Базаров смотрел на свои скованные руки. На лице у него появилась какая-то странная улыбка, та же, что и в ночь разгрома цыганского праздника, слабая, смутная, шалая какая-то…
– Нет, кровь, я думаю, разная на вкус. Не пробовал вашу, не знаю… Такие, Катя, вопросы задаешь странные. Кто из нас маньяк? Ей-богу, Катя, не пойму – я или ты?
Звякнула цепь наручников.
– Уходи, – он тоже пытался подняться. – Убирайся отсюда. И запомни, что я сказал. НИЧЕГО ЕЩЕ НЕ КОНЧЕНО. Я все помню и все понимаю. Слышишь, ты? Я переживу вас всех. И мы еще посмотрим, поглядим, кто из нас сумасшедший!
– И как беседа прошла? – спросил Колосов весьма развязно, едва только конвой, отстегнув наручники, увел Базарова в камеру.
– Плохо. Я дурака сваляла, что пришла, ты прав был. Но так и должно было случиться.
– И что он конкретно тебе сказал?
– Он сказал, что НИКОГО НЕ УБИВАЛ.
– Он и врачам это говорил.
– Добавил, что не совершает бесцельных поступков. Он Димке матерью поклялся. – Катя подошла к пыльному зарешеченному окну. Ощущение было такое, словно каждый ее сустав двигался сам по себе, отдельно от остальных, и словно все были на шарнирах. Она чувствовала страшную усталость, словно выполняла тяжелую физическую работу. Нет, она не ожидала, что беседа с Базаровым будет вот такой. Ей все казалось, а женщин уж такими бог создал, что и он так же, как она, не может забыть то, что между ними было. И она сразу почувствует, что он НЕ ЗАБЫЛ. И вот она не почувствовала в этом человеке ничего, кроме…
– Еще он сказал, чтоб из его камеры убрали обоих соседей, Никита. Он вас раскусил. Сказал, что, если не прекратят давление, обработку, убьет обоих.
Колосов выпрямился, прищурился. Тон, когда он заговорил снова, был уже совсем другим:
– Ну а лично тебе каким он показался?
– Я не знаю, Никита. Он каждый раз разный. Мне иногда кажется, что у цыган и там, у вас на пленке, – был не он.