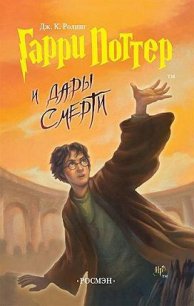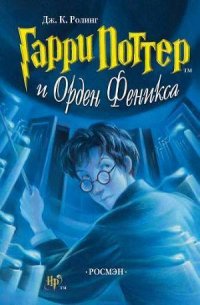Пронто - Леонард Элмор Джон "Голландец" (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
А через пару недель, двадцать девятого мая, мы доставляли в Штрафной учебный центр одного дезертира, и вот тогда я и увидел впервые Эзру Паунда. Он был весь какой-то помятый и оборванный, ну прямо бродяга из самой что ни на есть трущобы, и сидел в одной из этих одиночек, где держали особо опасных заключенных и тех, кого приговорили к смерти. А его камеру укрепили еще и дополнительно, помимо решеток, стальной сеткой. Он сам называл это «обезьянья клетка», и выглядело очень похоже. Стояла эта клетка на бетонном фундаменте, примерно шесть на десять, имела двускатную крышу и отовсюду была открыта, так что дождь мог заливать ее со всех сторон. У других заключенных были в клетках что-то вроде палаток или тентов, а Эзра первые недели обходился парой одеял. Ночью его освещали прожектором, и никто не должен был с ним говорить. Ведь там, – продолжал Гарри, – никто, пожалуй, и не знал, что он – всемирно известный поэт. Администрации лагеря сказали только, что он предатель родины, и велели сторожить его получше, чтобы не сбежал или не покончил жизнь самоубийством. А еще шли разговоры, что фашисты могут попытаться его освободить. Потом, через какое-то время, режим смягчили, и его перевели в лазарет. И дали ему стол, чтобы мог писать свои стихи.
– Свои Cantos, – сказала Джойс. – Он потратил сорок лет на поэму, которую не поднимет, пожалуй, ни один человек в мире.
– "В камере смертников месяц прожив, возненавидишь все клетки", – продекламировал Гарри. – Ты что, и этого не понимаешь?
– В кои-то веки он написал нечто осмысленное, – ответила Джойс.
– Он был гением, – сказал Гарри.
– Расистом он был, – парировала Джойс. – И отъявленным антисемитом. Он считал, что Гитлер прав насчет евреев, говорил, что именно они начали войну. И называл Рузвельта «президент Розенфельд».
– Но потом он сказал, что все это было большой ошибкой, такие взгляды и такие выступления, – пожал плечами Гарри.
– Кроме того, он сказал потом, что и Cantos – абракадабра, полная глупость, – заявила Джойс. – Не забывай, Гарри, что я читала книги, которые ты подсовывал.
– В это время он был уже стариком, – возразил Гарри, без большой убежденности в голосе.
Интересно, подумал Рэйлен, и часто они вот так спорят – Гарри защищает своего кумира, а Джойс стирает его в порошок. Наступила тишина.
– А ты говорил с ним – тогда, в этом лагере? – спросил Рэйлен.
– Один раз, – кивнул Гарри. – Я спросил, как его дела, а он ответил, что наблюдает, как осы строят дом с четырьмя комнатами. Следующий раз я увидел его через месяц, уже в лазарете. Он сидел за столом и печатал на машинке. Мне говорили, что он писал письма для неграмотных заключенных. Они любили его, называли «Дядюшка Эз». Как бы там ни было, он что-то печатал, и я опять спросил его, как дела. Это я, двадцатилетний мальчишка, разговаривал с Эзрой Паундом. Он взглянул на меня, не прекращая печатать, и сказал:
«В своем драконьем мире муравей – кентавр. Смири тщеславие...» «Что?» – спросил я, но он уже смотрел на лист, вставленный в машинку. «Муравей – кентавр...» Я запомнил эту строчку, а через три года нашел ее в его книге «Пизанские Cantos», восемьдесят первый номер.
– Так ты что, видишь в этой строчке какой-нибудь смысл? – спросила Джойс.
Вот так и хочет его донять, думал Рэйлен. А если это и не должно иметь какого-либо смысла? Во всяком случае, Гарри ни в каком смысле не нуждается.
– Этот человек был гением, – повторил Гарри.
– Ты говоришь так, доверяя мнению других, повторяешь чужие слова.
– Да, а почему бы и нет?
– Гений, у которого не все дома.
– Пусть так, – согласился Гарри. – Но ведь это его и спасло, верно? Надо совсем свихнуться, сказали его друзья, чтобы загнать себя в такое идиотское положение.
Джойс взглянула на Рэйлена:
– А ты знаешь, что было с ним потом?
Рэйлен покачал головой. Он знал это имя, Эзра Паунд, и больше, пожалуй, ничего. После приснопамятной поездки в Атланту он попытался было почитать что-нибудь из стихов Паунда, но быстро бросил это занятие, придя к решению, что слишком туп для такой литературы. И очень обрадовался, узнав, что эти стихи непонятны, пожалуй, вообще никому.
– Его объявили психически ненормальным, – сказала Джойс, – и послали не в тюрьму за измену родине, а в больницу Святой Елизаветы, которая в Вашингтоне.
– Двенадцать лет в дурдоме Святой Елизаветы, – отозвался Гарри. – Хорошенькое обращение со старым любимцем американской интеллигенции, особенно той ее части, которая обосновалась в Европе. Так, кажется, назвали это в «Тайм». Кстати, такая же шляпа, – повернулся он к Рэйлену, – которую ты с головы не снимаешь, была на Эзре. В одной книге есть фотография. Снимали в шестидесятом году, я тебе сейчас покажу. Сходи в библиотеку, – обратился он к Джойс. – Посмотри рядом с большим креслом, единственным приличным креслом на весь этот дом. Там две биографии и книга стихов «Избранные Cantos».
Динклага [20], где ты
С «Фон», а может, без?
Ты сказала, зубы на черных лицах
Солдат напомнили охоту на кабана.
Я думала, что первую твою охоту, но
Черные заключенные милы с детьми и необыкновенно,
К тому же как там его имя, того, который
Провел ночь в воздухе, запутавшись в причальных тросах.
Одинокая скала для чайки,
Которая и без того способна сесть на воду!
А разве индуисты
Не вожделеют к пустоте?
– Читать дальше или хватит?
Джойс прикрыла книгу, заложив пальцем страницу.
– Ты хочешь сказать, что ничего не понимаешь? – Лицо Гарри хранило серьезное, непроницаемое выражение. – Это великолепное чтение, к нему бы еще вино и сыр.
– Иногда начинаешь вроде и понимать что-то, – сказала Джойс, – но потом смысл снова ускользает. И мне пришлось найти сперва кусок, который по-английски, – повернулась она к Рэйлену. – А то ведь там и по-итальянски, и по-гречески, а время от времени он вставляет и китайские загогулины.
– Когда Эзру Паунда посадили в клетку, – объяснил Гарри, – он прихватил с собой китайский словарь и Конфуция. Ты покажи Рэйлену фотографии – обезьянью клетку, Дороти, Ольгу Рудге. В этой книге, что побольше, есть снимок Эзры Паунда в такой же шляпе, что и у Рэйлена, это Рим, шестидесятый год. Когда Эзру выпустили из заведения Святой Елизаветы, он сразу же вернулся сюда, просто не терпелось ему – потому я и помню точно дату. Вернулся, ты только послушай это, с Дороти и еще одной своей подружкой, Марселлой, на сорок лет моложе его. Он считал, что любит ее, а потому должен на ней жениться, разведясь предварительно с Дороти. Ну а в результате Дороти снюхалась с Ольгой, которая так и жила в Италии, и они на пару заставили-таки Марселлу уехать. Ну а вскоре у него началась депрессия, он разочаровался во всей своей работе, почти перестал есть и разговаривать. У Дороти опустились руки, она бросила безуспешные попытки что-то для него делать, и тогда Эзра переехал сюда, к Ольге. Здесь я и увидел его снова, – продолжал Гарри. – В шестьдесят седьмом. И даже трижды подряд, в одном и том же кафе, и каждый раз Эзра и его любовница обедали вместе с целой компанией. Вокруг него все время толпились люди – друзья, журналисты, берущие интервью. Ну и, конечно, целая толпа поэтов. Каждый обед был вроде праздника или приема – все смеялись и говорили. Один раз я сидел за соседним столиком, а он ел какую-то рыбу и все время, пока ел, жаловался, сколько в ней костей. Тогда же я пошел следом за Эзрой Паундом в туалет, по пути обогнал его и придержал ему дверь, а когда он проходил мимо, я сказал: «В своем драконьем мире муравей – кентавр». Он взглянул на меня и прошел в кабинку, так ничего и не сказав. Я не обиделся ничуть – ведь его постоянно беспокоили, изводили все кому не лень. Они приходили к дому и звонили в дверь, туристы разные, а Ольга Рудге говорила: «Я пущу только того, кто сможет вспомнить хоть одну строчку из его стихов», и если они не уходили, она обливала их из шланга. Надо бы поесть, – повернулся он к Джойс. – Ведь уже время ленча.
20
Динклага – обыгранное имя возлюбленной Горация. В переносном смысле Лалага («мило лепечущая») – возлюбленная поэта. Обращение, по всей видимости, относится к Ольге Рудге.