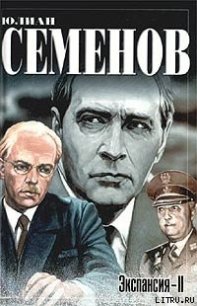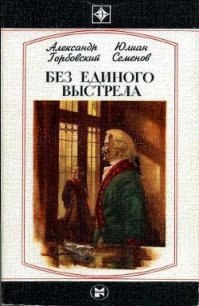Экспансия – I - Семенов Юлиан Семенович (читаем книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
— Папа против того, чтобы вас провожал офицер оккупационной армии? — спросил немец; его звали Ганс.
— Не в этом дело, — легко солгала Криста, — но вы, конечно, знаете, как к вам относятся в Норвегии?
— К нам относятся хорошо, — ответил Ганс. — Только вздорные одиночки не понимают того, зачем мы сюда пришли. Неужели вас не страшит угроза британской оккупации? Пример Ирландии должен быть пугающим.
На праздник рождества они заявились к ним в дом втроем: книжник Ганс, Фриц с цветами и «шоколадный Вилли»; были чрезвычайно вежливы, сделали все, чтобы демонстративный уход из гостиной ее отца не был таким шокирующим, но все же вели себя словно те самые тетерева на току, только что хвосты не пушили.
…Блас вернулся, снова оценивающе оглядел Кристу, словно бы раздевал ее, попросил официанта принести еще одну бутылку вина и сказал, что в «Лас пачолас» столик зарезервирован, сначала выпьем здесь, потом прокатимся на экипаже по старой Севилье, а после отправимся на ужин; кстати, там прекрасные фламенко, значительно лучше мадридских, послушаем песни Андалусии, они здесь совершенно особые.
— О, как прекрасно! Спасибо! — откликнулась Криста.
— Вы в первый раз на пенинсуле? — спросил Блас.
— Да.
— Интересно?
— Конечно.
— Что успели посмотреть в Мадриде?
— Не очень-то много, — ответила Криста, усмехнувшись чему-то. Она ведь не хотела уезжать в Севилью; рядом с Роумэном, в его хирургически чистом доме, а потому, в самом начале, показавшемся ей отстраняюще-холодным, она совершенно неожиданно для себя испытала странное чувство, похожее на незнакомую ей ранее умиротворенность. Будучи человеком сильным, очень самостным, не играющим, он позволил ей ощутить спокойствие рядом с ним, то спокойствие, какого она не знала с той поры, как гестапо забрало отца и маму. Она убеждала себя, что все это выдумка, она на работе, никаких сантиментов, это мешает делу, расслабляет, дает простор для иллюзий, она говорила себе, что все происходящее — актерское «приспособление», просто надо придумать себе эту умиротворенность, чтобы сподручнее было делать то дело, которое ей поручено, но чем дальше, тем явственнее она понимала, что ощущение, родившееся в ней, не есть приспособление для более точного исполнения той роли, которая была для нее написана, но самое истинное чувство, ранее ей незнакомое.
Во время первой встречи с Кемпом она сказала:
— Надо бы поскорее все завершить… Боюсь, мне будет довольно сложно работать в будущем…
— Увлеклись? — спросил он, стоя к ней вполоборота и разглядывая полотно Мурильо. — Хороший мужчина?
— Да не в этом дело, — ответила она раздраженно. — Он очень открытый человек… Верит мне… И в нем нет гадости…
— Поступайте, как знаете, — ответил Кемп. — У нас к нему тоже нет отвращения. Просто следует понять, чем он живет дома. Это не есть нечестность. В конечном счете можете подсказать ему что-то, мягко подействовать на него… Вы никогда не поступите по отношению к нему бесчестно. Наоборот, вполне вероятно, что понадобитесь ему в сложной ситуации… Если он действительно намерен жениться на вас, не отказывайтесь, не надо… А вообще-то поступайте так, как вам велит совесть. Я не смею вас неволить, упаси бог.
Точно просчитав мужчину Роумэна, именно Кемп предложил Кристине настоять на поездке в Севилью; это проверка, заметил он, и для вас и для него; ничто так не выявляется, как чувство, — особенно во время короткой разлуки. Поймете, что он вам действительно дорог — очень хорошо, мы расстанемся, начнете строить свою жизнь; ощутите в нем холодность, что ж, продолжим наше дело, вам не будет так трудно, как сейчас, все понимаю…
Говоря так, Кемп, однако, думал совершенно о другом: более всего привязывает мужчину, а особенно такого, как Роумэн, самостоятельность женщины: раз поездка в Севилью задумана — она должна осуществиться. Не для Кристы, а именно для Роумэна и была задумана поездка в Севилью; внезапная увлеченность женщины Роумэном оказалась для него неожиданной; все-таки женщины загадочные существа: увлечься таким человеком? Чудовищный характер, никакого шарма, груб, бестактен, совершенно беспомощен в кровати…
Слушая тогда Кемпа, она вспоминала Ганса, то утро, когда он, лежа в кровати, гладил ее по мокрой щеке и тихо говорил, как рвется его сердце за родителей «белобрысика» (она тогда еще не красилась, волосы были, как копна соломы), успокаивал ее, нежно шептал на ухо какие-то ласковые слова, слушая которые Криста расслаблялась, будущее не казалось ей таким ужасным, каким виделось с тех пор, как случилась трагедия с родителями.
А потом Ганс попросил помочь ему в его борьбе за несчастных стариков,
— «ты должна познакомиться с тем, кто по-настоящему виноват в их аресте; это сдвинет дело с мертвой точки; мне будет легче говорить с теми офицерами, от которых зависит их судьба». Она, конечно же, согласилась; он устроил ей встречу с доцентом университета Олафом Ли; гестапо подозревало его в связях с англичанами, надо было подвести к нему своего осведомителя; Ли был человеком осторожным, знакомств чурался; все те, кто его окружал ранее, были преданы ему и разделяли общее для норвежцев чувство глухой ненависти к оккупантам. Криста ему понравилась, тем более он знал ее отца и преклонялся перед талантом профессора; через две недели она сказала Гансу, что не может больше, «он хочет, чтобы я легла с ним в кровать». Ганс тогда долго молчал, потом принес вино и начал пить, наливая и ей одну рюмку за другой; под утро он сказал — в кровати уже, кончив истязать ее: «Я прощу тебе эту жертву… Если это поможет вернуть папу и маму, я прощу тебе все, белобрысик»… Когда она вернулась к нему через два дня от Олафа Ли, он всю ночь выспрашивал ее, как ей было с другим, любил ее исступленно, а потом исчез, не попрощавшись. Той же ночью к ней постучался незнакомый мужчина, говоривший по-норвежски с акцентом, сказал, что нужно срочно собраться и уехать отсюда, потому что Ли схвачен во время радиосеанса с Лондоном и его друзья считают ее виновной в провале, возможна месть, надо поменять квартиру, «мы не бросаем в беде наших друзей, особенно таких нежных и умных девушек, как вы». Он-то, этот Густав Гаузнер, и стал ее руководителем, он-то и устроил ей свидание с мамой, которую перевели из гестапо в госпиталь; отца обещали отпустить вскорости, после того как она закончит новую работу…
Она никогда не могла забыть, какая брезгливость к себе самой овладела тогда ею; она увидела себя со стороны, словно свое отражение в зеркале, в самые ее хорошие часы, когда она нравилась себе — особенно утром в воскресенье, можно поваляться в кровати, зная, что скоро будет кофе и все соберутся за столом, и папа будет рассказывать поразительные истории про свои числа, а мама сделает прекрасные хрустящие тостики на маргарине, и будет тихо и так надежно, как нигде, только в воскресное утро бывало ей так спокойно за столом с папой и мамочкой.
Она видела не себя даже, а какую-то женщину, невероятно, до ужаса на нее похожую; женщина стояла возле зеркала в легкой пижамке, красно-голубые цветочки по белому, и все в ее лице было прежним — веснушки, вздернутый нос, ямочка на подбородке, но это же не я, думала она тогда, я не могу быть ею, этой гадкой подстилкой.
А почему? — услыхала она тогда чей-то тихий вопрос.
Потому что, ответила она, никто не видел, как я ревела в ванной, когда выходила от этого несчастного Ли, как я просила у бога прощения за то, что свершаю, как я перечитывала Библию, только бы найти оправдание себе, и я находила это оправдание, ибо заповедь гласила, что отца и мать надо возлюбить превыше всего, а если есть любовь, тогда можно пойти на все, только бы спасти тех, кто дал тебе жизнь, а сейчас подвержен муке.
Нет, возразил ей голос, совсем не похожий на ее собственный, это не оправдание. Ты должна была торговаться, как женщина на базаре, ты обязана была сказать: «Как только мамочка и папа придут домой, я выполню все, что я должна для вас выполнить, но я отдам свою честь лишь тогда, когда жизнь тех, кого я люблю, будет спасена».