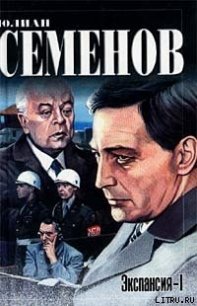Экспансия – II - Семенов Юлиан Семенович (книги без регистрации полные версии txt) 📗
В туалете пахло горькой лавандой, на полочке стояли три сорта туалетной воды: чего не сделают владельцы авиакомпании, лишь бы привлечь людей, — и виски тебе, и джин, и коньяк, и даже горькая лаванда из Парижа.
«Нет, — подумал Штирлиц, разглядывая свое отечное, еще более постаревшее лицо в зеркале, подсвеченном синеватым светом невидимых ламп, сокрытых где-то в отделке маленькой аптечки, набитой упаковками аспирина, — Роумэн не играл со мной, особенно в последний день. Им, может быть, играли. Но не он мной.
Если его не пристукнут сегодня, а по раскладу сил им надо убирать его, этот парень поможет мне вернуться домой. Когда-нибудь моя ситуация может показаться людям дикой, невероятной, фантасмагорической: человек сделал свое дело, намерен вернуться на Родину, она всего в семи часах лета от Мадрида, но реальной возможности возвращения не существует. Потомки отметят в своих изысканиях одну из главных отличительных черт национал-социализма: закрытость. Именно так. При нескрываемой агрессивности — тотальная закрытость государства, табу на знание иных культур, идей, концепций; невозможность свободного передвижения, запрет на туризм: «Мы — нация избранных; тысячелетний рейх великого фюрера есть государство хозяев мира, нам нечему учиться у недочеловеков, мы лишь можем заразить нацию чужеземными хворобами, гнусными верованиями и псевдознаниями; немцам — немецкое». Франко скопировал Гитлера, несколько модифицировав практику его государственной машины с учетом испанского национального характера: чтобы отвлечь народ от реальных проблем, во всем обвиняли коммунистов и русских. Зато празднества теперь были невероятно пышны и продолжительны, готовились к ним загодя, нагнетая ажиотаж; всячески культивировали футбол, готовили страну к матчам, особенно с командами Латинской Америки, словно к сражению, отвлекая таким образом внимание людей от проблем, которые душили Испанию; тех, кто не поддавался такого рода обработке, сажали в концентрационные лагеря; разжигали страсти вокруг тех или иных фламенко; [2] коррида сделалась, особенно благодаря стараниям профсоюзной газеты «Пуэбло» и еженедельника «Семана», прямо-таки неким священным днем: пятница и суббота — ожидание, воскресенье — таинство, понедельник и вторник — обсуждение прошедшего боя, а, глядишь, в среду какой-нибудь футбол, вот и прошла неделя — и так год за годом, ничего, катилось. При этом абсолютная закрытость границ, не столько для иностранцев, как у Гитлера, сколько для своих: чтобы получить визу на выезд во Францию, надо было тратить многие месяцы на ожидание, заполнять десятки опросных листов, проходить сотни проверок. С моими-то документами, — усмехнулся Штирлиц, — я бы не выдержал и одной… А французы? Соверши я чудо — переход испанской границы, французы должны были поверить мне? «Почему же не вернулись раньше?» «Почему не написали в Москву»? Как ответить людям, живущим в демократическом обществе? Они ведь не поймут, что вернуться из фашизма не просто; написать — нельзя, перехватят, особенно если на конверте будет стоять слово «Москва». А разве бы я поверил на их месте? Нет, конечно. Человек с никарагуанским паспортом, нелегально перешедший границу, говорит, что он полковник советской разведки, и это спустя полтора года после окончания войны… Этика взаимоотношений между погранзаставами заставила бы французов передать меня испанцам — слишком уж невероятна моя история… Да и я — поставь себя на место моего Центра — долго бы думал, признавать меня своим или нет, особенно после того, как Роумэну передали отпечатки моих пальцев в связи с делом об убийстве Дагмар Фрайтаг и бедняги Рубенау…
Только в Рио я могу прийти в наше посольство, — сказал он себе. — Риск сведен до минимума. Даже если вход в посольство охраняют — а его наверняка охраняют, — у меня теперь в кармане надежный паспорт, который дал Роумэн: «Я обращаюсь к русским за визой». Там я в безопасности, там я спасен, и случится это через шестнадцать часов, если аэроплан не попадет в грозу и молния не ударит по крылу, не откажут два мотора и не случится самозагорания проводки, сокрытой — для максимального комфорта — под мягкой кожей обивки фюзеляжа.
Кстати, — подумал Штирлиц, — я однажды вспоминал уже наш разговор с папой о культуре; это было на той страшной конспиративной квартире Мюллера, когда его доктор делал мне уколы, чтобы парализовать волю… Я то и дело цепляюсь, словно за спасательный круг, за папу. И тогда папа спас меня, не дал сломаться; он постоянно во мне; воистину, веков связующая нить. Лицо его у меня перед глазами, я слышу его голос, а ведь последний раз мы виделись двадцать пять лет назад в нашей маленькой квартирке в Москве, когда я обидел его, — никогда себе не прощу этого. Видимо, ощущение вины и дает человеку силу быть человеком; тяга к искуплению — импульс деятельности, только в работе забываешь боль.
А каково будет Роумэну, если я выйду из самолета, чувствуя, что сил продолжать борьбу нет? Каково будет ему остаться одному? Я ведь пообещал ему не уходить, обговорил формы связи, породил в нем надежду на то, что буду рядом. Я готов к тому, чтобы стать лгуном? Изменить данному слову?»
Штирлиц вернулся на свое место; стюард попросил его пристегнуть ремни.
— Через тридцать минут мы сядем в Лиссабоне, сеньор. Еще виски?
— А почему бы и нет? Вы давно летаете на этом рейсе?
— Третий месяц, сеньор. Я был среди тех, кто открывал линию.
— Полет утомителен?
— В определенной мере. Но зато абсолютно надежен. Не зря ведь ученые считают, что на земле и в океане куда больше возможностей попасть в катастрофу. Вы, кстати, застраховались перед вылетом?
— Нет. А надо было?
Стюард пожал плечами:
— Я-то застраховался на пятьсот тысяч, пятую часть оплатила фирма; у меня жена ждет ребенка…
— Боитесь перелета?
— Ну что вы, сеньор, — ответил стюард, — такая надежная машина, гарантия безопасности абсолютна…
По тому, как парень ответил ему, Штирлиц понял, что тот боится. «Да и сам ты побаиваешься, — сказал он себе, — нет людей без страха; есть бесстрашные люди, но это те, кто умеет переступать страх, знакомый им, как и всем другим; очень скверное чувство, особенно если боишься не только за себя, но и за тех, кого любишь, а еще за то, что у тебя в голове, что необходимо сохранить для пользы дела, рассказав об этом, известном одному лишь тебе, всем, кого это касается. А ведь то, что знаешь т ы, касается всех, потому что никто не знает нацизма, как ты, никто из выживших. Не было людей, переживших инквизицию, ибо она не рухнула, подобно нацизму, но медленно и ползуче сошла на нет, обретя иные формы в мире. Остались иносказания и намеки. Летописи инквизиции, оставленной жертвами и свидетелями, не существует; значит, всегда будет возможное двоетолкование фактов. Я в этом смысле уникум: человек враждебной нацизму идеологии двенадцать лет — всю его государственную историю — проработал в его святая святых — в политической разведке. Кто скажет миру правду, как не я? Но почему, — в который уже раз, прерывая самого себя, Штирлиц задал себе вопрос, который постоянно мучил его, — почему Мюллер позволил мне узнать больше того, что я имел право знать? Почему его люди называли в соседней комнате имена своих агентов — такие имена, от которых волосы становятся дыбом?! До тех пор, — сказал он себе, — пока ты не найдешь этих людей, имена которых знаешь, а еще лучше Мюллера, — он жив, он готовился к тому, чтобы уйти, — ты ничего не поймешь, сколько бы ни бился. Хватит об этом, смотри в иллюминатор. Снова кто-то швырнул на землю сине-бело-желтую гроздь звезд — Лиссабон, столица Салазара, друга фюрера; сколько же у него осталось в мире друзей, а?!»
Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался Штирлицу знакомым. «Я встречал этого человека. Но он знает меня лучше, чем я его. Это точно. Цинковоглазый? Нет. Другое. Вспомни его, — прикрикнул он на себя и, усмехнувшись, подумал невольно: — Мы, верно, единственная нация, которая и думает-то проворно только в экстремальной ситуации. Американец вечно торопится, он весь в деле; британец величав и постоянно озабочен тем, чтобы сохранить видимость величия; француз рад жизни и поэтому отводит от себя неугодные мысли, а более всего ему не хочется терять что-либо, не любит проигрыша, прав Мопассан; мы же витаем, нам угодно парение. Мысль как выявление сиюминутного резона не в нашем характере, пока гром не грянет, не перекрестимся».
2
Фламенко (исп.) — исполнители танцев и песен.