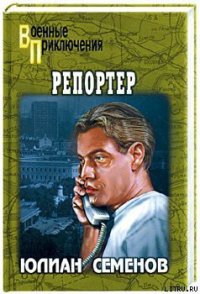ТАСС уполномочен заявить - Семенов Юлиан Семенович (читать книги .txt) 📗
— Товарищ генерал, сегодняшняя ночь — единственный наш шанс? — спросила младший лейтенант Жохова.
Константинов полез за сигаретой, ответил тяжело:
— Да, насколько нам известно, последний.
В шесть часов на связь вышел Коновалов:
— Товарищ Иванов, из посольства вышли пять машин, Лунса среди них нет, идут по Садовому в направлении Крымского моста.
— Кто из ЦРУ?
— Джекобс и Карпович.
— Как себя ведут?
— Спокойно… Нет, Джекобс резко перестроился в левый ряд, видимо, хочет снимать пароль с «Волги».
— Карпович его страхует?
— Нет, спокойно идет в третьем ряду… По сторонам не смотрит… Джекобс снял пароль, резко ушел в правый ряд, делает круг, спускается на набережную, выехал на набережную… Проехал мимо дома Дубова… Смотрит на место его обычной парковки…
— А может быть, пароль «Паркплатц» — парковка у дома? — задумчиво спросил Константинов Гмырю и Проскурина, сидевших рядом. — Почему он проехал мимо дома, а?
— Поднимается по переулку наверх, — докладывал между тем Коновалов. — Остановился возле посольства… Не запирая машину, вбежал во двор… Вышел… В руке пачка журналов… Сел в машину… Выехал на кольцо… Едет во втором ряду. Резко берет в крайний левый ряд, проверяется.
— Видит вас?
— Не знаю.
— Плохо, — сказал Константинов.
— Снова ушел во второй ряд, взял направление к Крымскому.
— Кто сообщает? Вторая?
— Нет, сообщают из первой, он еще в поле видения.
— Хорошо, продолжайте.
— Есть.
В шесть сорок пять Джекобс запарковал машину около дома, где живут сотрудники посольства, и поднялся к себе.
В семь часов Константинов выехал в Парк Победы.
В час ночи сотрудников Коновалова сняли; лил дождь; промокли все до нитки. ЦРУ на встречу не вышло. Провал.
Славин
«Здравствуй, родной!
Я придумала философскую формулу, и она прекрасна: лицемерие качается, как занавес, укрепленный между колосниками, а посредине торжествующий мещанин! Сосед Валерий Николаевич, встретив меня вчера у лифта, спросил: „Тяжело молодой красивой женщине ощущать постоянное одиночество, или свобода любви гарантирует ее от этого чувства?“ Я хотела ему сказать, что он старый пошляк, но ты учишь меня сдержанности, и я ответила ему вполне парламентски.
Вот.
Как же мне тебя не хватает, Виталя! Не потому, что я слабая барышня и нуждаюсь в покровительстве мужчины с бицепсами, не потому, что я сделана из твоего ребра и горжусь тем, что ты мой господин; мир, при всех его щедротах, довольно-таки слаб на таланты, а то, что ты талантлив, совершенно для меня очевидно.
Да, кстати, Ильины купили невероятного щенка, один месяц, но — представь! — дома не писает, скулит под дверью, похож на медведя, невероятно ласков. Что, если я куплю такого же к твоему приезду? Ты ведь вернешься рано или поздно, надеюсь?!
Так вот, по поводу талантливости. Знаешь, что я поняла? Я поняла вот что: женщину влечет к таланту его индивидуальность. А всякая индивидуальность вне закона, и соприкасаться с тем, что необычно, очень для женщины интересно, о чем красноречиво говорит факт прелюбодеяния Евы, и если мне станут доказывать, что Адам ее к этому понудил, я стану громко смеяться. Кстати, куда поедем отдыхать? У писателей открылся дом в Пицунде, бары работают до двенадцати, что само по себе невероятно, ибо отдыхающий обязан уже в одиннадцать спать крепким сном, готовя себя к завтрашней передаче „С добрым утром“; номера роскошны; с лоджиями. Как тебе? Я бы с радостью просветила кого-нибудь из Литфонда до самой сердцевины, но у них своя прекрасная поликлиника, следовательно, я не „дефиситна“, думай ты. Или поедем к рыбакам? Но тогда я не смогу надеть длинную юбку, а я ее сшила из холста, и она тебе очень бы нравилась.
Приезжай скорее. Завтра пойду к гадалке. Тут одна слепая замечательно гадает и лечит заговором волчанку.
Вот.
А вообще-то, по-моему, сердце человека не в силах оказать влияние на ум; сердце — добрее. Я стала злой. Привычка может выработаться; привычно закуривать, привычно скрывать зевоту, привычно выслушивать глупости, привычно успокаивать Лилю; нельзя только приучить себя к тому, чтобы привычно ждать.
А некоторые могут. А я с детства не могла — постоянное, проклятое нетерпение. Наверное, ты меня с трудом переносишь, да? Как хорошо любить женщину, спокойную, как телка, и такую же поседливую. А что? Если существуют непоседы, как назвать их противоположность?
Ты вообще-то понимаешь, отчего я канючу все время? Я ведь отвлекаю тебя от твоего дела, хочу, чтобы ты на меня позлился, тогда тебе будет лучше думаться. Надо бы сформулировать и защитить кандидатскую «Теория отвлечения от деловых забот раздражителем любви». Меня тогда бабы растерзают.
О новостях. Звонили Конст. Ив. и Лида. Оба слишком весело говорили, какой ты молодец, и что вот-вот вернешься, и что командировка эта, в отличие от других, носит прямо-таки прогулочный характер, из чего я вывела — утешают. И сказала об этом. Конст. Ив. посмеялся и ответил, что в общем-то я права, но каких-либо серьезных оснований для беспокойства нету.
Звонила Надя Степанова. Хоть они и поврозь, но она все-таки спрашивает про Диму. Со мной говорит сухо: я ведь не жена, а подруга, а их, подруг этих, надо опасаться — дурной пример заразителен.
Я ей сказала, что ты в отъезде, а потому про Диму ничего не знаю, только в газетах читаю его корреспонденции. Письмо от Димы посылаю тебе в этом же конверте, очень хотелось распечатать, но если женщина хоть раз посмотрит письмо, адресованное мужчине, или залезет к нему в записную книжку, значит, любовь кончилась — началась матата, надо разводиться. Странно, разводятся, только если любят, когда любовь кончилась, начинают цепляться, развода не дают, скандалят и ходят жаловаться в общественные организации.
У нас страшная погода: то холод, то жара, поступают больные с гипертоническими кризами. Помнишь, Холодов советовал сердечникам в месяцы неспокойного солнца жить в подвалах? Может, он прав, а?
Родной, я видела вчера, когда возвращалась из клиники, как на сквере дрались голуби. Я никогда не думала, что эти птицы умеют драться. Пикассо, символ мира и так далее. Но потом я поняла, что они дрались из-за любви. А можно ли драку такого рода считать дракой?
Пожалуйста, если сможешь, купи мне книгу Айерса о травматологии у детей среднего возраста. Очень много к нам привозят с переломами. Особенно девочек. Вываливаются из окон. Хозяюшки моют стекла, когда мамы или бабушки нет дома, сначала — по их логике это верно — открывают нижний шпингалет — легко дотянуться, а потом, когда внизу помыли, открывают верхний и вываливаются. Раньше, когда я была маленькой, в больницы родителей не пускали, а теперь мы разрешаем мамам и бабушкам сидеть весь день. Добреем. Хотя с санитарками у нас очень плохо. Идут в уборщицы, работают в двух местах, сто восемьдесят на руки, иначе и говорить не хотят. Я, стошестидесятирублевый рентгенолог, смотрю на них снизу вверх.
Вот.
Я очень хотела к твоему возвращению заказать дубовую раму в твой кабинет, такую, которая тебе нравится, но поняла, что планета наша для веселья мало оборудована, сто раз прав Маяковский. Мне сказали, что заказ будет выполнен через год, в лучшем случае. Ну и черт с ними, правда? Только б ты скорее вернулся, и мы бы с тобой были вместе хотя бы ту субботу и воскресенье, когда ты прилетишь. А еще лучше — вечером в пятницу.
Я тебя целую, любовь моя.
Ирина».
«Виталя, привет!
Мне передали твою весточку. Начал кое-что раскручивать про Глэбба. Жду сообщений из Бонна. Там вообще-то очень интересная конструкция выстраивается. Ты — молодец, что натолкнул меня на эту тему. Оказывается — но это пока еще в стадии уточнения, — Зепп Шанц является акционером тех компаний, которые были связаны с Нагонией. Потому-то он и способствует отправке к Огано головорезов из штурмовых отрядов.
У меня есть приятель, Курт Гешке, очень толковый парень, сотрудничал в «Шпигеле», друг Вальрафа, его эта тема интересует. В свое время я отдал ему мои материалы по людям Мао в Западном Берлине, так что он наверняка поможет мне с Зеппом Шанцем. Пока что, как пишет Курт, ясно одно лишь: головорезы Зеппа летят в Луисбург не на «Люфтганзе», а тайно перебрасываются американскими транспортными самолетами, что есть — по каким-то там положениям Пентагона — делом запрещенным; боятся демаскировки и все такое прочее. Курт караулит, он это умеет делать, чтобы потом бабахнуть во весь голос — тогда потянется цепочка: кто разрешил их перебрасывать? А если Пентагон хитрит и все это делается по его указанию, чтобы маскироваться? Курт считает, что скандал будет сокрушительный, он там, кстати, ходит вокруг резидента ЦРУ, что-то на него копает, вроде бы тот на чем-то горел, но про это дело говорит мало. Вообще, молодец парень: я послал ему телекс, так он ответил мне через пять часов, но телеграммой — видимо, не хотел, чтобы прочитали те, кому он не верит. А не верить ему приходится многим.
Такие-то дела, старик. Как там у вас в Москве? Что хорошего? У меня здесь жарко — в прямом и переносном смысле. Приходится маленько драться: посол, слава богу, умница, он понимает, что чувствования литератора отличны от чувствований человеков иных профессий (это не есть культ элитарности, просто — констатация факта). Поэтому он поддерживает мои корреспонденции, а иные возражают, считают, что я сгущаю краски. А я их не сгущаю, журналисты — народ корпоративный, мы — и те и наши — сходимся на одном: вот-вот начнется драка, Огано доводит истерию до некоего абсолюта, когда дальше уж делать нечего, кроме как стрелять. По ночам на улицах трещат автоматы, военные патрули ездят на машинах, иначе бы город захлестнул террор. Грисо отказался ввести комендантский час, и меня это, говоря честно, насторожило: я был в Чили накануне путча. Правда, я не могу сказать, что революция здесь не вооружается — они вооружаются, они учатся науке борьбы за революцию: сделать ее так же трудно, как защитить; Ленин, кажется, утверждал, что защитить — труднее.
Вчера один товарищ упрекнул меня: «Не слишком ли много диалогов в ваших репортажах; книга — это одно, а журналистика — совсем иное». Я объяснил ему, отчего люблю диалог: именно диалог позволяет уклоняться и приближаться к тому или иному предмету, суживать рамки вопроса, наоборот, расширять их; бросать проблему, возвращаться к ней, а главное — заставлять читателя идти за тобой; менторство в зубах навязло. Диалог позволяет поднять собеседника, ему можно отдать свои мысли, наоборот, взять на вооружение его слова, выделить их, налечь на них, это ж игра ума, разве нет?
А мне возразили: «Это не в традициях русской журналистики».
На что я сказал: «Лучший, талантливейший поэт нашей эпохи потому-то и погиб, что был вне традиций стихосложения. Но я стреляться не намерен, хоть и не смею сравнивать себя с Маяковским».
Так, теперь вернемся к нашим баранам. Вообще, я, наверное, являю собою образец литератора, который приводит в защиту своей мысли такие доводы, которые, на первый взгляд, самой мысли противоречат. А что? Лучшее доказательство примата добра на земле — хорошее и яркое описание сил зла. Кое-кого это смущает, хотят одной краски, но так не получится, не поверят, народ умный пошел, если где и свершилась культурная революция — так это у нас, при всех наших благоглупостях. К чему этот пассаж? А вот к чему: меня надо дочитать до конца, чтобы составить связное впечатление; я пишу не словами, а блоками, иначе говоря, мыслями — сними шляпу, начальник, я скромный!
Эрго: Курт предложил объединить материалы о дяде Шанце, нацисте, которого мы ищем, с племянничком, которым он занимается. И бабахнуть единый материал. Более того, Курт говорит намеками, что родство этих двух сукиных детей простирается и на какого-то третьего за…ца. Кто такой — не открывает, значит, заключаю я, копает что-то очень интересное.
Завтра меня обещают подбросить на границу, в тот район, где стоят банды Огано. Знаешь, что сделал этот парень? Он заказал мишени для стрельб — портрет Грисо. И первый прошил его очередью. Любопытно, что печатали эту мишень в Штатах, клеймо обнаружили, но рисовал Джорджа Грисо китаец — они не могут писать африканца или европейца, не придав их лицам своего национального колорита. Надеюсь, ты не обвинишь меня в национализме?
Тут в пресс-баре я сцепился с одним британцем.
«Мы говорили вам о желтой угрозе еще в сорок пятом, а вы посылали Пекину машины, когда ваши люди жили в землянках». Я взбеленился. «Я эти вагоны грузил, — сказал я ему. — Своими руками. И шли эти вагоны через Белоруссию, которая, верно, жила в землянках. Но мы поступали правильно, потому что я не знаю, что такое „желтые“, я знаю китайцев и люблю их, потому что жил у них, ел с ними из одной миски. Пройдут и Мао и Хуа (хотел сказать по-иному, но не понял бы британец, где ему в тонкостях русской словесной конкретики разобраться?!). А китайцы, как великая нация, останутся и будут помнить — обязаны помнить, кто помогал им, в какую годину, отрывая от себя, от своих людей самое необходимое, не смогут не вспомнить — пожалуйста, я готов и на такую формулировку: „Плох тот политик, который думает сегодняшним днем“. Надобно думать вперед, политик — это строитель, и если бы, кстати, на западе в политике был хоть один строитель, а не сплошные юристы, им было бы очень легко понять наши намерения, так ведь легко вычислить, что мы строим и что хотим построить. Хотя, может, понимают, потому что пытаются разорить вооружениями. А вообще-то, „панмонголизм, хоть слово дико, но слух ласкает мне оно“. Никто нас лучше не понял, как высочайший интеллигент Блок: „Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами“. „Скифы“ — куда как больший гимн русскому, чем разлюли-малины наших лапотников. Почему, кстати, лапотников? Я бы на месте промкооперации золото качал из лапотного промысла — нет более удобной и гигиеничной обуви, а буржуй нас обошел — вовсю лаптями торгует, несколько, правда, модернизированными. Серьезно, это не из серии „Россия — родина слонов“, это — по делу.
Старче, время. Я с тобою заболтался. Ты обладаешь особым качеством: ты умеешь слушать. И я нахожусь под твоим гипнозом даже здесь, в Нагонии.
Салуд, камарада! Венсеремос!
Обними Ирину, она у тебя — настоящий товарищ. Завидую мужикам, у которых есть друзья-женщины. Их — мало. Посему их должно беречь, не давая притом поблажек. „Домострой“ — неплохая книга, а?
Привет, старик. Обними всех наших с тобою друзей, скажи им, что я без них очень скучаю.
Дмитрий Степанов».