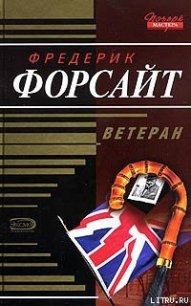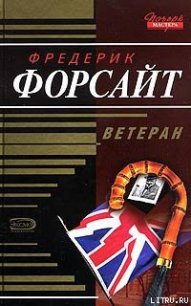Досье «ОДЕССА» - Форсайт Фредерик (книги читать бесплатно без регистрации txt) 📗
На первых двадцати страницах Таубер описывал свое детство. Отца – рабочего, ветерана первой мировой войны, смерть родителей вскоре после прихода Гитлера к власти.
В 1938 году Таубер женился на девушке по имени Эстер. До сорок первого года благодаря вмешательству начальника Саломона не трогали. Но в конце концов его взяли в Берлине, куда он поехал по делам. После лагеря для перемещенных лиц Таубера вместе с другими евреями запихнули в вагон товарного поезда, шедшего на восток.
Я не могу точно вспомнить, когда поезд остановился. Кажется, мы ехали шесть дней и семь ночей. Поезд вдруг встал, полоски света из щелей подсказали мне, что на воле день. Голова кружилась от усталости и вони. Снаружи кто-то закричал, лязгнули засовы, двери вагона отворились. Хорошо, что я, еще недавно одетый в белую рубашку и отглаженные брюки, не мог видеть самого себя. Достаточно было взглянуть на других.
Яркий солнечный свет хлынул в вагон. Люди закрыли глаза руками и закричали от боли. Под напором сзади на станцию высыпало полвагона – смердящая толпа спотыкавшихся людей. Я стоял сбоку от двери, потому не вывалился наружу, спустился одним из последних, по-человечески.
Двери вагона открыли охранники из СС. Злые, жестокие, они переговаривались и кричали на непонятном языке или стояли поодаль, презрительно смотрели на нас. В вагоне на полу осталось лежать человек тридцать – побитых, затоптанных. Остальные, голодные, полуослепшие, потные, в вонючих лохмотьях, кое-как держались на ногах. От жажды мой язык присох к нёбу, опух и почернел, губы запеклись и потрескались.
На платформе разгружались еще сорок таких же вагонов из Берлина и восемнадцать – из Вены. Около половины «груза» составляли женщины и дети. Охранники бегали по платформе, дубинками строили вывезенных в некие подобия колонн, чтобы отвести в город. Но в какой? И на каком языке они говорили? Потом я узнал, что город называется Рига, а эсэсовские охранники были набраны из местных подонков.
Позади них стояла горстка людей в потертых рубахах и штанах с большими буквами J (от немецкого JUDE – еврей) на груди и спине. Это была особая команда из гетто, ее привезли вынести из вагонов трупы и похоронить мертвецов за городом. Команду охраняли десятка полтора человек тоже с буквами J на груди и спине, но подпоясанных армейскими ремнями, с дубинками в руках. А назывались они еврейскими «капо», их кормили лучше остальных заключенных.
Под вокзальным навесом, в тени стояли и офицеры СС. Один самодовольно возвышался на каком-то ящике и с презрительной ухмылкой рассматривал несколько тысяч ходячих скелетов, заполнявших перрон. Эсэсовец постукивал по сапогу хлыстом из плетеной кожи. Зеленая форма с серебряными сдвоенными молниями на правой петлице сидела на нем как влитая. На левой был обозначен его чин. Капитан.
Он был высок и строен, со светлыми волосами и блеклыми голубыми глазами. Потом я узнал, что он отъявленный садист, уже известный под именем, которым его впоследствии станут называть союзники: Рижский мясник. Так я повстречался с капитаном СС Эдуардом Рошманном. [1]
Рижское гетто располагалось прямо в городе. Раньше там было еврейское поселение. Когда привезли нас, коренных евреев там осталось всего несколько сотен: меньше чем за три недели Рошманн и его заместитель Краузе уничтожили их почти полностью.
Гетто находилось на северной окраине Риги, за ним начинался пустырь. С юга концлагерь окружала стена, а остальные три стороны были забраны колючей проволокой. Единственные ворота стояли на северной стороне, а около них – две сторожевые башни с эсэсовцами из латышей. От ворот прямо к середке гетто шла «Масе калну иела», или Маленькая холмистая улица. Справа от нее (если смотреть с севера на юг, встав лицом к воротам) лежала «Блех пляц», то есть Оловянная площадь, где заключенным объявляли наказания, проводили переклички, выбирали, кого послать на тяжелые работы, а кого повесить. Посреди площади стояла виселица о восьми стальных крюках. Она никогда не пустовала. Каждый вечер вешали по меньшей мере шестерых, но часто крюков не хватало, и людей казнили в несколько заходов, пока Рошманн не оставался доволен своей работой.
Гетто занимало не больше трех квадратных километров. Раньше в этом районе жили двенадцать-пятнадцать тысяч человек, поэтому для нашей партии в пять тысяч места было предостаточно. Но после нас эшелоны с людьми стали приходить ежедневно, пока население гетто не увеличилось до тридцати или сорока тысяч, и с прибытием каждого нового поезда кого-то из заключенных уничтожали, чтобы освободить место для новичков, иначе скученность стала бы угрожать жизни всех, а этого Рошманн допустить не мог.
С наступлением осени, потом зимы жизнь в гетто становилась все хуже. Каждое утро обитателей лагеря, а это были в основном мужчины – женщин и детей убивали гораздо чаще, – собирали на Оловянной площади тычками прикладов в спину. Начиналась перекличка. Имен не называли, просто пересчитывали и делили на рабочие группы. Изо дня в день почти всех мужчин, женщин и детей строили и гнали в построенные неподалеку мастерские на двенадцать часов подневольного труда.
Еще вначале я сказал, что раньше работал плотником. Я солгал, но, будучи архитектором, видел, как работают они, и справился бы. Я рассчитал верно: плотники нужны везде, и меня отправили на ближайшую лесопилку, где из местных сосен делали сборные блиндажи для солдат.
Работали мы до изнеможения. Случалось, падали даже самые крепкие – лесопилка стояла в низине, на холодном сыром ветру, дующем с побережья.
Утром до марша на работу нам давали пол-литра так называемого супа – воды, в которой изредка попадались картофелины, – и еще пол-литра его же с куском черного хлеба по вечерам, когда мы возвращались в гетто.
Если кто-то приносил в лагерь еду, его на вечерней перекличке вешали на глазах у всех. И все-таки выжить можно было, только подкармливаясь на стороне.
Когда по вечерам заключенные возвращались в лагерь, Рошманн и кое-кто из его холуев вставали у входа и обыскивали некоторых. Они наугад вызывали мужчину, женщину или ребенка, заставляли его раздеться у ворот. Если у несчастного находилась картофелина или ломоть хлеба, его оставляли там же ждать, когда остальные дойдут до Оловянной площади. После подходил Рошманн с охранниками и обреченными. Мужчины взбирались на эшафот и с веревками на шее ждали конца переклички. Потом Рошманн проходил мимо виселицы и, улыбаясь каждому смертнику, вышибал у него из-под ног табуретку. Иногда он только притворялся: в последний миг останавливал ногу и раскатисто хохотал, увидев, как трепещет, ощутив под собой опору, осужденный, которому казалось, что он уже болтается в петле.
Иногда приговоренный к смерти молился, иногда просил пощады. Рошманн любил послушать такого. Он притворялся, что глуховат, склонял голову поближе и просил: «Говорите погромче. Что вы сказали?»
А выбив из-под него табуретку – вообще-то она больше напоминала ящик, – он поворачивался к своим холуям и говорил: «Черт возьми, мне, пожалуй, придется купить слуховой аппарат…»
Через несколько месяцев Рошманн стал для заключенных сущим дьяволом. Его изуверским выдумкам не было конца.
Когда обнаруживалось, что пищу в лагерь принесла женщина, ее сначала заставляли смотреть, как вешают мужчин, особенно если среди них был ее муж или брат. Потом Рошманн приказывал ей стать на колени перед нами, и ее налысо остригал лагерный парикмахер. После переклички несчастную вели за ворота, заставляли копать неглубокую могилу. Затем она становилась перед ней на колени, и Рошманн или кто-то другой стрелял ей прямо в затылок. Смотреть на эти казни запрещалось, но охранники-латыши поговаривали, будто Рошманн часто стрелял над ухом, чтобы оглушенная женщина падала в могилу, карабкалась наверх и вновь становилась на колени. В другой раз он стрелял из незаряженного пистолета, так что женщина, уже приготовившаяся умирать, слышала только щелчок затвора. Словом, Рошманн изумлял даже подонков-охранников…
Жила в Риге одна девушка, на свой страх и риск помогавшая заключенным. Ее звали Олли Адлер, привезли, по-моему, из Мюнхена. Она была необычайно красива и понравилась Рошманну. Он сделал ее любовницей – официально она именовалась домоправительницей, потому что связи между эсэсовцами и еврейками запрещались. Когда ей разрешали приходить в лагерь, она приносила лекарства, украденные со складов СС. В последний раз я видел ее в рижском порту, когда нас сажали на корабль…
К концу зимы я понял, что долго не протяну. Голод, холод, каторжный труд и ежедневные зверства превратили мое некогда сильное тело в мешок костей. Из осколка зеркала на меня смотрел изможденный, небритый старик с воспаленными глазами и впалыми щеками. Недавно мне исполнилось тридцать три, но выглядел я вдвое старше. Как и все остальные.
Я видел, как полегли в могилы десятки тысяч людей, как сотнями узники умирали от холода и непосильной работы, как их расстреливали, пороли или избивали до смерти. Протянуть даже пять месяцев, что удалось мне, считалось чудом. Жажда жизни, вначале одолевавшая меня, постепенно исчезла, осталась лишь привычка к существованию, которое рано или поздно оборвется. Но в марте произошел случай, давший мне силы прожить еще год.
Я прекрасно помню тот день. Это случилось третьего марта 1942 года, в день второй отправки в Дюнамюнде. Месяц назад мы впервые увидели тот необычный фургон. Размером он не уступал большому автобусу, но без окон, выкрашен был в стальной цвет. Он остановился у самых ворот гетто, а на утренней перекличке Рошманн объявил, что в Дюнамюнде, в восьмидесяти километрах от Риги, открылся рыбоконсервный завод. Работать там легко, сказал он, кормят хорошо и вообще живется вольготно. Работа не тяжелая, посему поедут туда только старики, женщины, больные, слабые и дети.
Естественно, отведать такой жизни захотелось многим. Рошманн шел мимо строя, выбирал тех, кто поедет, и на сей раз старые и слабые не хоронились за спинами сильных, не кричали и не сопротивлялись, как бывало, когда их тащили на экзекуцию, а, наоборот, всячески старались себя показать. В конце концов набралось больше ста человек, их посадили в фургон. Когда его двери закрылись, мы заметили, как плотно они прилегали к кузову. Фургон поехал, но выхлопных газов не было. Потом мы все-таки узнали, что это за машина. Не было в Дюнамюнде никакого завода. Тот фургон был душегубкой. И с тех пор «отправка в Дюнамюнде» стала означать верную смерть.
Третьего марта по лагерю прошел слух, что ожидается еще один такой рейс, и точно, на утренней перекличке Рошманн объявил о нем. Но теперь никто уже не рвался вперед, потому Рошманн, широко улыбаясь, сам пошел вдоль строя, толкая рукоятью плети в грудь того, кого назначал ехать. Внимательно разглядывал он последние ряды, где обычно стояли слабые, старые и неспособные работать.
Одна старушка предугадала это и стала в первый ряд. Ей было не менее шестидесяти пяти, но, чтобы выглядеть моложе, она напялила туфли на высоких каблуках, черные шелковые чулки, юбку выше колен и игривую шляпку, нарумянила щеки, напудрила лицо, накрасила губы.
Дойдя до нее, Рошманн остановился, пригляделся. Потом лицо эсэсовца расплылось в довольной улыбке.
– Вот это да! – воскликнул он и, плетью указав на старуху, привлек внимание своих приспешников, охранявших тех, кого уже приговорили к смерти. – Не хотите ли вы, юная леди, прокатиться в Дюнамюнде?
– Нет, господин офицер, – задрожав от страха, ответила старуха.
– И сколько же вам лет? – громко спросил Рошманн под смешки своих холуев. – Семнадцать, двадцать?
– Да, господин офицер, – пролепетала старуха.
– Очаровательно, – вскричал Рошманн. – Ну что ж, мне всегда нравились красивые девушки. Выйди, выйди, чтобы мы все могли полюбоваться твоей молодостью.
Сказав это, он схватил ее за руку и выволок на середину Оловянной площади. Поставил на виду у всех и сказал: «Ну-с, юная леди, не станцуете ли вы нам, раз уж вы такая молодая и красивая?»
Старуха стояла на площади, ежилась от холода, дрожала от страха. Она что-то прошептала.
– Как?! – закричал Рошманн. – Не хочешь? Неужели такая юная милашка, как ты, не умеет танцевать?
Его дружки из СС надрывались от смеха. Старуха покачала головой. Улыбка исчезла с лица Рошманна.
– Пляши, – зарычал он.
Она сделала несколько суетливых движений и остановилась. Рошманн вытащил «люгер» и выстрелил в песок у самых ног старухи. От страха она подскочила почти на полметра.
– Пляши… пляши… пляши, старая жидовка! – заорал он и стал всаживать в песок у ног старухи пулю за пулей, приговаривая: «Пляши!»
Расстреляв одну за другой три обоймы, Рошманн заставил старуху скакать целых полчаса. Наконец она в изнеможении упала наземь, лежала, не в силах подняться даже под страхом смерти. Рошманн выпустил три последние пули около лица старухи, запорошив ей глаза песком. После каждого выстрела она всхлипывала на всю площадь.
Когда патроны кончились, Рошманн вновь заорал: «Пляши!» – и пнул старуху сапогом в живот. Мы молчали. Но вдруг мой сосед начал вслух молиться. Он принадлежал к секте хасидов, был невысок, с бородкой, в длинном черном пальто, свисавшем лохмотьями. Несмотря на холод, заставлявший нас опускать уши на шапках, он носил широкополую шляпу своей секты. И вот он начал декламировать из священной книги Шема, все громче повторял дрожащим голосом бессмертные строки. Зная, что Рошманн рассвирепел окончательно, я тоже стал молиться, но молча, просил Бога заставить старика замолчать. «Слушай, о Израиль…» – пел он.
– Заткнись, – прошипел я, не поворачивая головы.
«Адонай елохену (Бог нам господь)…»
– Замолчи же. Всех погубишь.
«Адонай еха-а-ад (Господь единственный)», – вытянул он последний слог, как принято у иудейских канторов, не обращая на меня внимания. В тот самый миг Рошманн перестал кричать на старуху. Он поднял голову и, словно зверь на запах, повернулся к нам. Я был выше соседа на целую голову, поэтому Рошманн поглядел на меня.
– Кто это говорил? – заорал он, вышагивая ко мне по песку. – Ты? Выходи. – Сомнений не было, он указывал на меня. «Вот и конец, – подумал я. – Ну и что? Рано или поздно это должно было случиться». Когда Рошманн оказался передо мной, я вышел из строя.
Эсэсовец молчал, но лицо у него дергалось, словно в припадке. Наконец он овладел собой и улыбнулся той спокойной волчьей улыбкой, которая вселяла ужас во всех обитателей гетто, вплоть до охранников.
Его рука двинулась так стремительно, что никто ничего не заметил. Я почувствовал лишь, как что-то негромко шлепнуло по моей левой щеке, и тут же меня оглушило, словно над ухом взорвалась бомба. Потом я отчетливо, но как-то отрешенно ощутил, что щека разошлась от виска до губы, словно гнилая тряпка. Еще не успела выступить на ней кровь, как Рошманн ударил меня вновь. На сей раз плеть располосовала правую щеку. Это был полуметровый арапник с гибкой стальной рукоятью и усеянным кожаными шипами наконечником, способным разрезать кожу, как бумагу.
По моей робе и за шиворот потекла кровь. Рошманн поглядел в сторону, потом снова на меня, указал на старуху, которая все еще лежала посреди улицы, обливаясь слезами.
– Возьми эту старую каргу и посади в фургон, – рявкнул он.
И вот, обливаясь кровью, я поднял старуху и понес по маленькой холмистой улице. Я опустил ее на пол фургона и уже собрался уходить, как вдруг она лихорадочно вцепилась мне в руку. Старуха уселась на корточки, притянула меня к себе и видавшим виды батистовым платочком вытерла мне кровь с лица. Обратив ко мне заплаканное, запорошенное песком лицо с подтеками туши и румян, на котором глаза блистали словно звезды, она прошептала: «Сынок мой, ты должен жить. Поклянись что выживешь. Что вырвешься отсюда и расскажешь им, тем, кто на свободе, что случилось с нами. Обещай мне именем Господа».
И я поклялся выжить во что бы то ни стало. Я поплелся в гетто, но на полпути лишился чувств…
Вскоре после возвращения к работе я решил, во-первых тайно завести дневник, по ночам выкалывать имена и даты на коже ног, чтобы когда-нибудь можно было восстановить все, происшедшее в Риге, и выдвинуть против изуверов точные обвинения; во-вторых, стать «капо», охранником.
Решиться на такое было нелегко – «капо» гнали заключенных на работу и обратно, а нередко и на казнь. Мало того, они были вооружены дубинками и зачастую на виду у эсэсовцев били своих же бывших товарищей, чтобы те работали еще усерднее. И все же первого апреля 1942 года я обратился к шефу «капо» с просьбой взять меня к себе на службу. В «капо» всегда не хватало людей, потому что, несмотря на лучший паек, менее скотскую жизнь и освобождение от каторжной работы, туда шли очень немногие…
Сейчас я опишу, как расправлялись с неспособными больше работать людьми, ведь таких в Риге по приказу Рошманна уничтожили тысяч семьдесят. Из каждых пяти тысяч узников, прибывавших к нам в одном товарном эшелоне, около тысячи приезжали уже умершими. Редко когда в пятидесяти вагонах оказывалось всего двести – триста трупов.
Потом новичков выстраивали на Оловянной площади и выбирали, кого казнить, причем не только из них, но и из нас тоже. Вот поэтому нас и пересчитывали каждое утро и вечер. Из вновь прибывших отбирали хилых и слабых, большинство женщин и почти всех детей. Их строили в стороне. Остальных пересчитывали. Если таких набиралось две тысячи, то и из старожилов отбирали две тысячи смертников. Так исключалось перенаселение гетто. Заключенный здесь мог выдержать полгода или чуть больше, но рано или поздно, когда его здоровье было подорвано, плеть Рошманна тыкалась ему в грудь, и он присоединялся к обреченным…
Таких сперва строем вели к лесу на окраине города. Латыши называли его Журчащий лес, немцы переименовали в Хохвальд, или Высокий лес. Здесь, под высокими соснами, рижских евреев перед смертью заставляли рыть огромные ямы. Здесь эсэсовцы по приказу и на глазах Рошманна расстреливали людей, ставя их так, чтобы они падали в ямы. Потом оставшиеся в живых засыпали трупы землей. Так, слой за слоем, ямы доверху наполнялись телами.
Каждый раз, когда уничтожали новую партию, мы в лагере слышали стрекот пулеметов, потом видели, как в гетто на открытой машине возвращается Рошманн.
В июле 1942 года из Вены прибыл новый большой транспорт с евреями. По-видимому, они все без исключения предназначались для «особого обращения», потому что до гетто так и не дошли. Мы и не видели этих людей: их прямо со станции отвели в Высокий лес и расстреляли. В тот же вечер из леса на четырех грузовиках привезли пожитки и вывалили их на Оловянной площади для сортировки. Получилась целая гора имущества. Ее разложили на кучи. Все складывали отдельно – обувь, носки, белье, брюки, платья, пиджаки, помазки, очки, вставные челюсти, обручальные кольца, перстни, шапки и прочее.
Так делалось всегда. Перед самой казнью всех приговоренных к смерти раздевали донага, их вещи собирали, сортировали и отправляли обратно в Германию. Золото, серебро и драгоценные камни собирал лично Рошманн…
Став «капо», я потерял все связи с узниками. Стоило ли объяснять им, почему я завербовался в охранку, что одним «капо» больше, одним меньше – от этого число убитых не изменится, а лишний выживший свидетель может если не спасти немецких евреев, то хотя бы отомстить за них. Так я успокаивал самого себя, но в этом ли крылась истинная причина моего поступка? Может быть, я просто страшился умереть? Как бы то ни было, страх вскоре прошел, потому что в августе случилось нечто, убившее во мне душу…
В тот месяц 1942 года из Терезинштадта, концлагеря в Богемии, где томились, пока их не выслали на восток, десятки тысяч немецких и австрийских евреев, пришел еще один транспорт. Я стоял на краю Оловянной площади, смотрел, как Рошманн выбирает, кого расстрелять сразу же. Каждый был обрит наголо, потому трудно было отличить мужчин от женщин – разве что по робе, какую обычно носили женщины. Одна из них на другом конце площади привлекла мое внимание. Что-то в ее облике показалось мне знакомым, хотя женщина была истощена, высохла, словно щепка, и не переставая кашляла.
Рошманн подошел, ткнул ей в грудь плетью и двинулся дальше. Охранники тут же схватили ее за руки и выволокли из строя к уже стоявшим посреди площади. Многие из того транспорта не годились для работы. Это означало, что меньше наших узников казнят сегодня, чтобы соблюсти норму в населении лагеря. Впрочем, на мне это отразиться не могло. Рошманн видел мои шрамы, но, кажется, не узнал их. Он бил по лицам столь многих, что рубцы на щеках не привлекали его внимания.
Почти всех отобранных в тот вечер построили в колонну и повели в лес на расстрел. Но у ворот стояла и душегубка, посему из колонны вывели человек сто самых слабых. Мне с четверыми или пятью другими «капо» и выпало подвести их к фургону. Была среди них и та женщина, ее грудь сотрясалась от туберкулезного кашля. Она знала, куда идет – они все знали, – но, как и остальные, покорно брела к фургону. Женщина оказалась слишком слаба, чтобы подняться на высокую подножку, и повернулась ко мне за помощью. Мы ошеломленно уставились друг на друга.
За спиной послышались чьи-то шаги, а двое «капо» рядом вытянулись, сорвали с голов фуражки. Понимая, что подходит эсэсовец, я проделал то же самое. Женщина по-прежнему смотрела на меня не мигая. Эсэсовец вышел вперед. Это был капитан Рошманн. Он приказал двум «капо» продолжать и выцветшими голубыми глазами взглянул на меня. Я посчитал, что его взгляд означает только одно: вечером меня высекут – я не слишком проворно снял фуражку.
– Как тебя зовут? – тихо спросил Рошманн.
– Таубер, господин капитан, – ответил я, вытянувшись в струнку.
– Что-то ты не спешишь, Таубер. Не оживить ли тебя немного сегодня вечером?
Отвечать было бессмысленно. К порке меня уже приговорили. Рошманн бросил взгляд на женщину, заподозрил что-то, прищурился и расплылся в хищной улыбке.
– Ты знаком с ней? – спросил он.
– Да, господин капитан, – ответил я.
– Кто она?
Я не мог говорить. Губы словно склеились.
– Может, это твоя жена? – продолжил эсэсовец.
У меня хватило сил лишь кивнуть. Рошманн улыбнулся еще шире.
– Ну, дорогой мой Таубер, куда подевалось твое воспитание? Помоги даме сесть в фургон.
Я стоял не в силах двинуться с места. Рошманн подвинулся ближе и прошептал: «Даю тебе десять секунд. А потом пойдешь туда сам».
Я медленно протянул руку, Эстер оперлась на нее. С моей помощью она забралась-таки в фургон. Поднявшись, Эстер взглянула на меня, и две слезинки, по одной из каждого глаза, скатились у нее по щекам. Она так ничего и не успела сказать. Двери захлопнулись, фургон уехал. Последнее, что я увидел, были ее глаза.
Двенадцать лет я пытался понять тот взгляд. Что было в нем: любовь или ненависть, презрение или сочувствие, неприятие или понимание? Этого я уже не узнаю.
Когда душегубка уехала, Рошманн, все еще улыбаясь, повернулся ко мне.
– Ты можешь жить, покуда будешь нужен нам, Таубер, – сказал он. – Но отныне ты не человек.
И он был прав. В тот день моя душа умерла. Это случилось двадцать девятого августа 1942 года. Я стал роботом. Ничто больше меня не волновало. Я не чувствовал ни холода, ни боли. Равнодушно смотрел на зверства Рошманна и его холуев. До меня не доходило ничто, способное затронуть душу. Я просто запоминал все до мельчайших черточек, а даты выкалывал на коже ног. Приходили новые транспорты, людей отправляли на казнь в лес или в душегубку, они гибли, их хоронили. Иногда я, сопровождая смертников к воротам гетто с дубинкой в руке, заглядывал им в глаза. И мне вспоминалось стихотворение английского поэта, где описывалось, как старый моряк, которому суждено было выжить, заглядывал в глаза своих умиравших от жажды товарищей по команде и видел в них проклятие. Но для меня этого проклятия не существовало – я даже не чувствовал себя виноватым. Это пришло позже. А тогда была лишь пустота, словно у живого мертвеца…
1
В четыре часа утра двадцать второго июня 1941 года три армейские группировки из ста тридцати гитлеровских дивизий перешли границу СССР. За каждой группой армий двигались полчища карательных отрядов СС. Гитлер, Гиммлер и Гейдрих приказали им уничтожать коммунистов, комиссаров и все еврейские поселения на пути армии, перегонять евреев в гетто, созданные при каждом городе для «особого обращения» с ними.
Ригу немцы взяли первого июля 1941 года, а в середине месяца туда вошли СС. Первые части отделов СД и СА обосновались в Риге к августу и приступили к выполнению плана, согласно которому Остляндия (так были названы все три Прибалтийские республики) должна была стать «свободной» от евреев.
Потом в Берлине решили превратить Ригу в лагерь смерти для немецких и австрийских евреев. В 1938 году в Германии их жило триста двадцать тысяч, в Австрии – сто восемьдесят, то есть, в общей сложности, полмиллиона. К июлю 1941 года с десятками тысяч из них уже расправились, в основном в Заксенхаузене, Мауткаузене, Равенсбрюке, Дахау, Бухенвальде, Бельзене и Терезинштадте (в Богемии). Но мест там уже не хватало, и для уничтожения остальных евреев выбрали далекие восточные земли. Начали расширять старые и строить новые концлагеря – в Аушвице, Треблинке, Бельзене, Майданеке. Однако пока их не построили, нужно было найти, где истребить одних и «сохранить» других. Выбрали Ригу.
Между первым августа 1941 года и четырнадцатым октября 1944 года сюда переправили почти двести тысяч исключительно немецких и австрийских евреев. Восемьдесят тысяч там и погибло, сто двадцать развезли по шести концлагерям в южной Польше, откуда живыми вышли только четыреста человек. Половина их потом погибла в Штутгофе или во время марша Смерти в Магдебург. Таубер попал в Ригу на первом поезде из фашистской Германии, прибывшем туда в 3.45 дня восемнадцатого августа 1941 года.