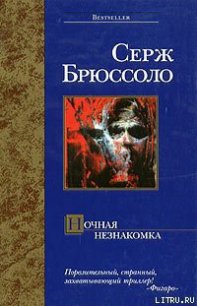Новые центурионы - Уэмбо Джозеф (читаем книги онлайн .txt) 📗
А что, если окажет сопротивление при аресте какой-нибудь бугай, вроде Кильвинского? Гус задумался. Как же я смогу его задержать? Ему было о чем порасспросить напарника, но расспрашивать Кильвинского он постеснялся. С кем помельче было бы куда проще. А теперь и вовсе сомнительно, что настоящего приятеля он найдет себе среди этих людей в униформе. В их обществе он чувствовал себя мальчишкой. Возможно, он допустил ошибку.
Возможно, подумал он, ему никогда не стать одним из них. Они кажутся такими сильными и уверенными в себе. И повидали немало. Но, может, это лишь бравада? Может, и так.
Но что, если от того, сумеет ли он преодолеть свой страх, чего до сих пор ему так и не удавалось, будет зависеть чья-то жизнь, хотя бы того же Кильвинского? Четыре года семейной жизни да работа в банке оказались тут неважным подспорьем. И почему ему не хватает смелости поговорить откровенно с Вики? Он вспомнил, как часто, особенно после занятий любовью, лежал в темноте рядом с ней, но наедине со своими мыслями, и молился, чтобы у него достало отваги на честный разговор, но отваги всякий раз недоставало, и про то, что он трус и сам знает об этом, не знал, кроме него, никто, даже Вики. Остался бы он в банке — и кому какое дело, трус он или нет? Он был хорош и в борьбе, и в физ-подготовке, но стоило кому-то на тренировке в паре с ним действовать всерьез, как его тут же мутило и уже можно было из него веревки вить. В чем причина? Однажды, когда его поставили бороться с Уомсли, он слишком жестко провел захват — именно так, как и показывал им Рэндольф. Уомсли рассвирепел. Стоило Гусу глянуть ему в глаза, как страх вернулся, сила ушла, и Уомсли легко уложил его наземь. Он сделал это с такой злобой и яростью, что Гус даже не сопротивлялся, хотя знал, что он сильней Уомсли и куда проворнее. Ничего не попишешь: неспособность подчинять себе свое тело была следствием его трусости.
Неужели ненависть — это именно то, чего я так боюсь? Неужели ее? Лица, искаженного ненавистью?
— Эй, квочка, кончай высиживать цыплят, отжимай сцепление! — крикнул Кильвинский, не имея возможности помешать какой-то дамочке за рулем ползти на своей машине к светофору. Она преградила им путь и вынудила затормозить на желтый свет.
— Пятьдесят четвертая улица, западная сторона, номер сто семьдесят три, — проговорил Кильвинский, царапая в блокноте.
— Что? — спросил Гус.
— Наш вызов. Пятьдесят четвертая улица, западная сторона, номер сто семьдесят три. Записывай.
— О, простите меня, пожалуйста. Никак не освоюсь с этим радио.
— Ответь им, — сказал Кильвинский.
— Три-А-Девяносто девять, вас понял, — произнес Гус в ручной микрофон.
— Ты и сам не заметишь, как начнешь без труда различать сквозь это щебетание свои позывные, — сказал Кильвинский. — Просто требуется какое-то время. У тебя получится.
— А что это за вызов?
— Вызов по невыясненным обстоятельствам. Это значит, что человек, позвонивший в полицию, и сам толком не понимает, что там стряслось, или не смог этого связно объяснить, или его не понял оператор, — такой вызов может означать все что угодно. Потому-то они мне и не по душе, такие вызовы. Пока не попадешь на место, понятия не имеешь, какая переделка тебя ожидает.
Гус нервно взглянул на фасады магазинов и увидел двух негров с высокими лоснящимися прическами и в цветных комбинезонах. Их красный «кадиллак» с откидным верхом остановился перед витриной, надпись на которой гласила:
«Ателье Большого Индейца», ниже желтыми буквами было приписано: «Самые модные прически. Процесс».
— Как вы называете такие прически, как вон на тех двух? — спросил Гус.
— На тех сводниках? Это как раз «процесс» и есть, хотя кое-кто называет его «марсель». У пожилых полицейских имеется на этот счет свое словечко — «газировка», но для рапортов большинство из нас ограничивается «процессом». На то, чтобы ухаживать за чудесным «процессом», наподобие вон того, уходит уйма денег, но ведь у сводников их куры не клюют. А иметь «процесс» на голове для них так же важно, как иметь «кадиллак». Без этих двух вещей не обходится ни один уважающий себя сводник.
Хорошо бы солнце наконец село и стало чуть прохладней, думал Гус. Он любил летние вечера, сменяющие такие вот жаркие и сухие, как бумага, дни.
Над белым двухэтажным оштукатуренным домом на углу показался полумесяц, рядом с ним загорелась какая-то звездочка. У широких дверей стояли двое коротко остриженных мужчин в черных костюмах и бордовых галстуках. Заложив руки за спины, они провожали полицейский автомобиль сердитыми взглядами.
— То была церковь? — поинтересовался Гус у Кильвинского, который даже не посмотрел ни на здание, ни на мужчин.
— Мусульманский храм. Что-нибудь знаешь о мусульманах?
— Да так. Кое-что читал в газетах.
— Секта фанатиков, не так давно пустившая ростки по всей стране. В нее вошли и многие бывшие жулики. Все они терпеть не могут полицию.
— А выглядят чистюлями, — сказал Гус и бросил взгляд через плечо. Лица мужчин неотрывно следили за их машиной.
— Они лишь капля в потоке, захлестнувшем страну, — сказал Кильвинский.
— Кроме нескольких человек, вроде нашего шефа, никто не ведает, к какому берегу нас прибьет. Чтобы выяснить это, может, понадобится десяток лет.
— Что это за поток? — спросил Гус.
— Долго объяснять, — ответил Кильвинский. — Да и не уверен, что у меня получится. Кроме того, мы уже приехали.
Гус обернулся и увидел на почтовом ящике зеленого оштукатуренного дома цифры 173. По переднему дворику тут и там был раскидан мусор.
На полуразвалившемся крыльце трясся, съежившись на ветхом плетеном стуле, старый негр в спецовке цвета хаки. Гус едва разглядел его.
— Хорошо, что вы, шефы, заимели возможность заехать, — сказал негр, вставая и постоянно поглядывая в приоткрытую дверь. Его била мелкая дрожь.
— В чем дело? — спросил Кильвинский, поднявшись на три ступеньки.
Фуражка его на серебристой копне волос держалась как влитая.
— Пришел я, значит, домой, а в доме вижу мужика. И даже не знаю, кто таков будет. Он сидел, значит, там и глядел на меня, а я испужался и побег прямо сюда вот, а потом дальше, вон в ту дверь, и позвонил по соседскому телефону, а пока вас дожидался, значит, все внутрь поглядывал, а он сидит там и качается. Боже ж ты мой, думаю: помешанный. Молчит, сидит и качается.
Гус непроизвольно потянулся к дубинке и вцепился пальцами в пазы на рукояти, ожидая, какой первый шаг предпримет за них Кильвинский. И был немало смущен, осознав, что испытал облегчение, когда Кильвинский подмигнул ему и произнес:
— Ты, напарник, оставайся здесь — на случай, коли он попытается выбраться в заднюю дверь. Там забор, так что ему придется поспешить обратно. Парадный вход — это единственное, что ему остается.
Спустя несколько минут Гус со стариком услышали крик Кильвинского:
— Ладно уж, сукин сын, выметайся и не вздумай возвращаться!
Хлопнула задняя дверь. Затем Кильвинский откинул москитную сетку и сказал:
— О'кей, мистер, можете войти. Он убрался.
Гус направился следом за ссутулившимся стариком. Вступив в прихожую, тот снял с головы измятую шляпу.
— Он, конечно, убрался, на то вы и начальство, — сказал старик, но дрожать не перестал.
— Я запретил ему возвращаться, — сказал Кильвинский. — Не думаю, что он когда-нибудь объявится еще в ваших краях.
— Да благословит вас всех Господи Боже, — произнес старик, направился, шаркая, к задней двери и запер ее на ключ.
— Давно пил в последний раз? — спросил Кильвинский.
— О, пара дней уж минула, — ответил старик, улыбнувшись и обнажив почерневшие зубы. — Со дня на день, значит, чек должен по почте прийти.
— Что ж, все, что тебе сейчас нужно, — это чашка чаю да немного сна. А завтра почувствуешь себя гораздо лучше.
— Благодарю вас, значит, всех без исключения, — сказал старик, а они уже шагали по щербатому бетонному тротуару к своей машине. Кильвинский сел за руль, тронул с места, но так и не проронил ни единого слова.