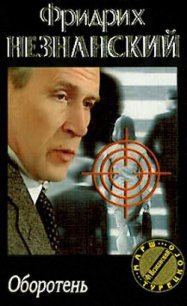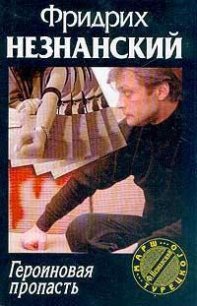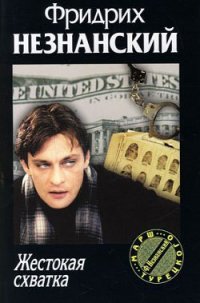Виновник торжества - Незнанский Фридрих Евсеевич (онлайн книга без txt) 📗
– И как тебе удается поддерживать порядок? Вот у меня, как ни стараюсь, – вечный срач.
А навестив в разгар ремонта свою любимую подругу, утирая ей слезы и сопли, разразилась поговоркой, которую Любаша прежде никогда не слыхивала и предположила, что Юлька придумала ее сама, себе в утешение.
С появлением Димитру ремонт перешел в новую стадию: молдаване принялись клеить обои. Притом Нику наотрез отказался клеить дешевенькие бумажные обои, убеждая хозяев, что они расползаются прямо в руках, стоит их промазать клеем. В руках у Нику они действительно мгновенно расползались в клочья, жаль было потраченных денег. И Любаша, выдержав и это испытание, поехала за новыми – дорогими. Нику любезно вызвался ее сопровождать, и они провели в магазине ровно три часа. Никак не могли прийти к общему решению. Наконец обои были куплены, и вечером братья с увлечением клеили нарядные обои, каждые полчаса приглашая хозяев разделить их радость от хорошо сделанной работы. Но недолго музыка играла... Нику опять повадился в ванную, оставляя Димитру надолго без помощника. Молодой, но совестливый сирота устроил Нику выволочку, и они перессорились, забившись каждый в свой угол со своей раскладушкой. В эту ночь призывные звуки молдавской хоры уже не услаждали слух собравшейся под окнами толпы ценителей этнической музыки, и они разочарованно разошлись по домам, гадая, что приключилось с полюбившимся им аккордеонистом. Наутро Димитру поднял брата ни свет ни заря, и Любаша услышала его возмущенные тирады:
– Где твоя совесть? Ты у людей уже месяц живешь. Здесь работы от силы дня на четыре. Бедной женщине голову морочишь. Народ наш позоришь, семью позоришь! – Он гневно обличал Нику, а тот молчал, пристыженный младшим братом. С этого момента Димитру не спускал с него глаз и пресекал любую попытку Нику проникнуть в ванную, заслоняя дверь грудью, как вражескую амбразуру. К вечеру они доклеили обои, еще один день потратили на окно, отскребая старую краску, шпаклюя и покрывая его новой краской. Димитру попросил Салтыковых потерпеть еще полдня, пока они уберут комнату. Наконец их позвали – братья гордо стояли у стены, демонстрируя свое мастерство. Комната сияла новыми обоями, белоснежным потолком, свежеокрашенными и чисто вымытыми окнами и отдраенным полом. Салтыковы не верили своим глазам – все выглядело значительно лучше, чем они ожидали. И главное: их мучения закончились. Им не придется до конца жизни вчетвером спать валетом на одной двухспальной кровати в крохотной спаленке и переворачиваться ночью по команде главы семейства.
И когда мастера наконец засобирались, Димитру тысячу раз попросил прощения за затянувшийся ремонт, а Нику с тоской оглянулся с порога на жилище, где провел замечательный месяц своей неустроенной жизни – в тепле, сытый, с горячей ванной и с личным милиционером под боком. Салтыковы еще долго вспоминали свои мучения и зареклись когда-либо делать ремонт.
А на Юлю злопамятный Юра дулся еще с полгода, обвиняя ее в коварстве. «У себя-то ты, небось, ремонт не делала!» – упрекал он Любашину подругу в злонамеренности. Но потом этот тяжелый месяц забылся, как кошмарный сон. И у Любаши появилась новая мечта – перламутровый аккордеон, на котором она, правда, умела играть единственную вещь – вальс «Под небом Парижа». В детстве она пять лет посещала музыкальную школу и за эти годы научилась играть вальс почти без ошибок. Но Юра наотрез отказался осуществить ее мечту. «Ненавижу аккордеон!» – отчеканил он недрогнувшим голосом, и Любаша ему поверила. Спасибо, что больше не сердился на нее, от супружеского ложа не отлучил, и в доме опять воцарились мир и покой.
После ремонта Салтыков разве что не пел, настолько был счастлив, что все мучения позади. Незадолго до этого Грязнов, который был тонким психологом и первым заметил подавленное настроение Салтыкова, решил, что Юра слишком близко к сердцу принимает неудачу в расследовании дела о маньяке. И когда неожиданно Салтыков стал приходить на работу заметно повеселевшим, выпытал у него все. Юра сам был удивлен, что так разоткровенничался, поскольку человек он был довольно замкнутый. Видно, здорово наболело... Вячеслав Иванович отметил про себя смущение Салтыкова, правильно его понял и посочувствовал ему весьма своеобразно:
– Я тебе скажу, Юра, что сам сильно разочаровался в семейной жизни еще много лет назад.
– Но я не разочаровался! – удивился его неожиданной реакции Салтыков.
– Как это – не разочаровался? – в свою очередь удивился Грязнов. – Как можно не разочароваться, когда вместо поддержки дома на тебя взваливают совершенно ненужные тебе проблемы? Женщины все-таки абсолютно непредсказуемые, от них одни хлопоты – не хотят они тихой спокойной жизни. То веди их в театр, то приглашай гостей, то на море им хочется хоть раз в три года, а то и того хлеще – ремонт им подавай! Все-таки как хорошо жить одному! Никто тебя не дергает, придешь домой – делай что хочешь. Хоть на велосипеде катайся – никто слова не скажет.
– И катаетесь? – Салтыков с любопытством уставился на Грязнова.
– Катаюсь, – вздохнул Вячеслав Иванович. – Купил себе тренажер-велосипед, через день по двадцать пять минут педали кручу.
– А почему такая странная цифра – двадцать пять минут?
– Меньше стыдно – что я, слабак какой-нибудь? А больше – скучно, и так едва это время дотягиваю. Даже книги читаю, пока ноги работают. Или новости слушаю. Спортивная нагрузка нужна, а то я что-то толстеть начал. А ведь я ненамного старше Турецкого.
А посмотри, какой он поджарый, стройный... – с завистью проговорил Грязнов.
– У Турецкого конституция такая. Как говорят в народе – не в коня корм.
– Это точно. Если бы мне кто-то готовил, как его Иришка, меня бы уже вдвое разнесло, – вспомнил он пирожки Ирины Генриховны. И Салтыков подумал, что кривит душой Вячеслав Иванович, не отказался бы и он от семейных радостей, если бы встретилась ему вторая Ирина Генриховна, о которой Юра много чего хорошего слышал.
Когда Турецкий позвонил в квартиру Алехиных, дверь открылась сразу – его уже ждали. Невысокая хрупкая женщина с уставшим печальным лицом пригласила зайти. За ее спиной возвышался коренастый мужчина. Его совершенно седые волосы были коротко пострижены. «А ведь он совсем не старый...» – подумал Турецкий, следуя за хозяином дома в гостиную. В уютной просторной комнате Турецкого пригласили сесть на большой мягкий диван, и он сразу утонул в нем. На стене напротив в дорогой рамке висела большая фотография красивой улыбающейся девушки.
Ее длинные светлые волосы разметались по плечам, веселые глаза смотрели озорно и радостно. Хозяйка дома, Валерия Антоновна, проследила взгляд Турецкого и дрогнувшим голосом сказала:
– Это лучшая фотография Оленьки. Ее фотографировал жених, в Хельсинки. Оля была очень счастлива...
У Валерии Антоновны опять дрогнул голос, но она совладала с собой и только сильнее сжала переплетенные пальцы. Александр Дмитриевич обнял ее за плечи и прижал к себе. У них было одинаковое выражение лиц – боль и отчаяние. Прошло совсем немного времени с тех пор, как они потеряли дочь, и они никак не могли смириться с этим.
– Вы знаете, минуло уже пять месяцев. И все равно невозможно поверить... – Валерия Антоновна с трудом подбирала слова.
– Я очень сочувствую вам. И понимаю ваше горе... – Турецкому всегда было нелегко выразить словами чувства, которые он испытывал. Но родители хотели услышать слова утешения, и он обязан был их найти. – Вы, наверное, знаете, что в Питере погибло еще несколько девушек. И у нас есть доказательства, что это дело рук одного... я не могу назвать его человеком. Мы его ищем. И найдем обязательно. Но нам нужна ваша помощь. – И встретив удивленный взгляд Алехиных, объяснил: – Я бы хотел узнать побольше о жизни Оли. О ее друзьях, где она бывала, с кем встречалась. Может, у нее была какая-нибудь привязанность. Или, наоборот, кто-то любил ее. Сейчас важна любая деталь. Понимаю, вам тяжело вспоминать, но если говорить о любимом человеке, которого вы потеряли, как о живом, – вам станет легче. Я знаю это совершенно точно. У моей жены четыре года назад умерла любимая сестра, с которой они были очень близки. Она тоже очень тяжело переживала утрату, месяц вообще спать не могла. А потом вдруг стала вспоминать о ней всякие истории, почему-то чаще всего веселые, из их детства, юности... Может быть, потому, что в юности всегда больше смеешься. Вы не находите?