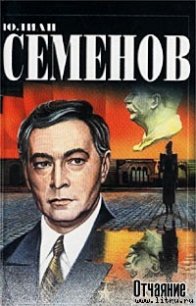Репортер - Семенов Юлиан Семенович (читать книги бесплатно полностью TXT) 📗
— Чего?!
— Да вы отворите дверь, — попросил я. — Пожалуйста… Я только спрошу…
— А ты через дверь и спрашивай. Чего я, глухая, што ль?!
Я услышал, как открылась дверь за спиной. Там жил прораб Светелкин, тихий, незаметный человек с уникальным глазомером: объем земляных работ, который предстояло выработать, определял в минуту. Странно, отчего «глаз-ватерпас» у нас говорят про алкашей?
Обернувшись, я увидел в дверях женщину. Жена прораба, подумал я, жаль, что раньше не познакомился, нехорошо.
— Василий Пантелеевич, — стараясь скрыть изумление, сказала она, вытирая руки о передник, — а вы…
— Да, отпустили…
— По здоровью?
Я успокоил ее, хотя мне казалось неудобным говорить об этом:
— Нет, приговор отменили… Меня реабилитировали…
— Это как? — не поняла женщина.
— Оправдали. Доказали, что я не был ни в чем виноват… Вы не подскажете, где мои детишки? И что там, — я кивнул на свою квартиру, — за бабка шамкает?
— Так это мать новых жильцов! Они Еремеевы, с Орла сюда подались…
— А где же Пашенька и Шурик?
— Вы ничего не знаете?
— Да откуда?!
— У меня не убрано… А то б зашли… — неуверенно предложила женщина.
— Нет, нет, не хочу тревожить, спасибо… Мне б только узнать, где дети…
— Так ведь Зинаида Евгеньевна уехала отсюда как месяц…
— Ее переселили?
— Нет. По обмену… В Курск… Она никому адреса не сказала… Уехала в одночасье… Вещей-то собирать — всего один чемодан, все остальное описали и вывезли… Может, все же зайдете? Я борщ варю…
— Что? Нет, нет, спасибо… Наверное, адрес я смогу достать в обменном бюро? Там ведь не может не быть, правда?
— Да не узнавайте вы адрес, — вздохнула женщина. — Она ведь не одна уехала… С новым мужем…
— А дети? — спросил я, ощущая нелепость моего вопроса.
Женщина, однако, поняла меня:
— Так ведь они маленькие! К любому мужчине тянутся: «папа» да «папа». Ну что ж мы тут стоим, — она наконец превозмогла себя: — Заходите, пожалуйста…
— Спасибо, мне еще надо успеть на работу, — ответил я. Это была правда, потому что начальник колонии, стараясь не смотреть мне в глаза, попросил прежде всего съездить в трест: «Там приготовлена компенсация, паспорт и путевка куда-то, вроде бы на море».
…В тресте я зашел в бухгалтерию. Из моих работников осталось только трое — все остальные новые, смотрели на меня настороженно. Любочка, Арнольд Иванович и Коля бросились ко мне, Любочка, обнимая меня, шептала сквозь слезы: «Господи, какое счастье, вот счастье-то, господи!»
…Кассир — тоже новая женщина (кассира-то зачем было убирать?!) — вручила мне пакет с деньгами, предложила пересчитать: тринадцать зарплат, целый пакет денег, я столько и в руках никогда не держал.
— Вас просили зайти в партком, — сказала она сухо. — В восьмую комнату.
Молодой мужчина в бежевом костюме поднялся мне навстречу, пожал руку и начал говорить, как он рад тому, что правда наконец восторжествовала…
— Вы сами-то здесь давно? — спросил я.
— Да уж год, Василий Пантелеевич.
— Много народу, смотрю, поменялось.
— Не сказал бы… Костяк, сдается, сохранен… Но, конечно, новая метла по-новому метет… Сейчас я позвоню, чтобы принесли ваши путевки… Очень хороший санаторий, в Крыму…
— Мне путевки не нужны, спасибо… Путевка… Одна путевка…
— Читали газету о пленуме обкома?
— Читал.
Я ждал, что он пригласит меня к новому директору или хотя бы спросит, чем я намерен заниматься. Он молчал, не зная, как себя вести, потом вымученно поинтересовался:
— Отсюда поедете к Каримову?
— Он меня не приглашал… Чего ж навязываться…
— Как я слыхал, именно он отправил за вами машину.
— Да? Странно. Шофер мне не представился, спросил, куда завести, — и все.
Я расписался за полученную путевку, уплатил членские взносы за все то время, пока числился вне рядов, сказал, что зайду еще раз, когда получу партбилет, — проставить штампики, чтобы все было погашено честь по чести, и поехал в городское бюро обмена.
Раньше, до ареста, я бы попросил секретаря помочь навести пустячную справку. Сейчас это надо было делать самому. Я встал в очередь. Приема у инспектора ожидало человек тринадцать. Очень много молодых, явно ушли с производства.
А как же закон об индивидуальном труде, подумал я. Где посредники, которые подготовят и проведут обмен, не нанося ущерба тем заводам и трестам, где работают эти люди?
— На что меняетесь? — спросил я мужчину, стоявшего передо мной.
— Хочу податься в Норильск… Там быстрей на пенсию выходят.
— Сколько вам до пенсии?
— Если здесь, то девятнадцать, а там всего одиннадцать… А уж потом, — мужчина улыбнулся осторожной, затаенной улыбкой, — жизнь начнется… На юг уеду, огород заведу…
— А что, здесь жизни нет?
Мужчина оглядел меня с головы до ног, отметил, видно, что костюм на мне болтается, пуговицы перешиты, вместо шнурков — веревочки в туфлях, и, покачав головой, усмехнулся:
— Потолки больно низкие.
Я не сразу понял его. Мы вообще-то тяготеем к двусмысленным ответам, оттого уточнил:
— Вы имеете в виду жилищное строительство? Или уровень заработной платы?
— Я имею в виду жизнь, — ответил он.
— Это как?
— А так… Сами, что ль, не знаете? На все лимит и потолок. Хочешь прыгнуть — а нельзя… Или — смысла нет… Спортсмен планку перемахнул — ему золотая медаль. А в нашей жизни? Мы же не придурки — ставить мировые рекорды в пустом помещении без зрителей… Медалей хотим… Золотых… А не сатиновых вымпелов…
— Вы кто по профессии?
— Конструктор.
— Где работаете?
— Где надо, там и работаю, — на этот раз мужчина оборвал разговор, демонстративно отвернувшись.
Откуда в нас эта невоспитанность, подумал я. Вспомнил, как военврач, возвращавшийся со мною в поезде из Берлина — в отпуск, на Брянщину, задумчиво говорил: «Знаете, у немецких друзей и порядок, и бананы с миндалем в захудалых деревенских магазинчиках свободно продают, не говоря уж о том, что там же семь сортов колбас и сарделек на кафельной стенке висят и все люди друг к дружке предельно вежливы, я все же испытываю умиление — даже слез сдержать не могу, — когда меня начинают отчитывать в Бресте… Каждый, кому не лень, ругает: и носильщик, и таможенник, и гардеробщик в ресторане, и официант… Они собачатся, а у меня в сердце покой и счастье — свои.
Слова этого молодого военврача с лучистыми глазами, молодого еще, сорока нет, запали мне и сердце. Когда мы прошли досмотр и встретились в ресторане брестского вокзала, я присел к нему за столик: «Чем вы объясните эту вашу умильность к тому, что наши так отчаянно собачатся?» Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, повторив: «Так ведь свои! От иностранного языка устаешь! Да и потом, знаете, горько испытывать ощущение собственной малости… У нас сестры в госпитале гроши получают, а купить есть что, товары хорошие — и ковры, и отрезы, и обувь, особенно «Саламандра»… Ну и наладились наши по воскресеньям обихаживать немецкие огороды за пятьдесят марок в день. Субботу и воскресенье работают — вот и босоножки… У меня сердце сжало, когда сестра милосердия поведала, что, мол, старик хозяин с ней по-русски говорит, добрый дед, с нами воевал, в плену язык выучил… Победители на побежденных вкалывают, разве не обидно?! С тех пор у меня прямо как навязчивая идея — домой, скорее домой, там хоть такого быть не может!»
…Кто ж это писал, что планета наша для веселья мало оборудована, подумал я, наблюдая за тем, как безжизненно-медленно движется очередь на прием к инспектору по обмену с иногородними. Кажется, Маяковский. Неужели он весь мир имел в виду? Или писал про нас, горемык? Во время первой зарубежной поездки в Чехословакию я даже сжимался, когда в магазинах, автобусах, в отеле постоянно слышал вокруг себя неизменно ликующее: «Просим вас», «Пожалуйста». Люди произносят это напористо, словно бы агрессивно навязывают тебе вежливость и взаимную уважительность. Отчего же мы — а ведь народ наш добр и отзывчив — так грубы и неотесанны?