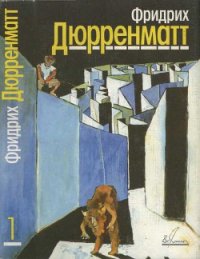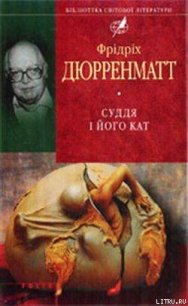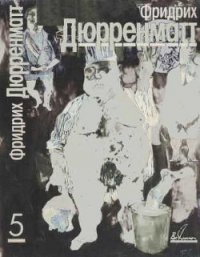Современный швейцарский детектив - Дюрренматт Фридрих (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации txt) 📗
— Рассказывайте же, госпожа Шротт, — для разнообразия напомнил патер. — Мы опаздываем с соборованием.
А я мечтал уже не о маленькой «Суэрдик», а о своей большущей «Байанос».
В девяносто пятом году она обвенчалась со своим бесценным покойником Галузером, журчал дальше неиссякаемый словесный поток. Он был доктором медицины в Куре.
Уже и это сестрице с ее полковником пришлось не по нутру, показалось недостаточно аристократичным, она это сразу учуяла, а когда полковник умер от гриппа, вскоре после первой мировой войны, сестрица совсем распоясалась, возвела своего милитариста в какое–то божество.
— Рассказывайте, госпожа Шротт, рассказывайте, — бубнил патер, не проявляя ни тени нетерпения, разве что тихую скорбь по поводу такого упорства в заблуждениях, меж тем как я клевал носом и временами вскидывался, как со сна, — вспомните про соборование, рассказывайте, рассказывайте.
Все напрасно. Лежа на смертном одре, старушка стрекотала неутомимо, неумолчно, несмотря на свой слабенький писк и на трубки под одеялом; перескакивала с пятого на десятое.
Поскольку я вообще способен был думать, я смутно предполагал, что она расскажет пустяковую историю про услужливого полицейского, а затем возвестит дарственную — несколько тысяч франков, имеющую целью позлить девяностодевятилетнюю сестрицу, я уже заранее заготовил горячую благодарность, мужественно подавил абстрактные мечты о сигарах и, чтобы окончательно не впасть в отчаяние, предвкушал теперь привычный аперитив и традиционный обед с женой и дочерью в «Кроненхалле».
А после смерти первого мужа, покойного Галузера, болтала тем временем старушка, она вышла замуж за Шротта, тоже ныне покойного, он у них служил шофером и садовником — словом, исполнял всю работу, какую в большом барском доме лучше всего исполнять мужчине, к примеру отапливать помещение, чинить ставни и прочее, и хотя сестрица открыто не возражала и даже приехала в Кур на свадьбу, но, понятно, была возмущена этим браком, хотя — опять–таки чтобы позлить ее — даже виду не подала.
Таким–то образом она стала госпожой Шротт.
Она вздохнула. Где–то в коридоре сестры милосердия пели предрождественские песнопения.
— Да, у нас поистине гармоничный брак был с дорогим моим покойничком, — продолжала старушка, послушав несколько тактов песнопения. — Впрочем, ему, пожалуй, бывало нелегко, мне трудно судить. Когда мы поженились, Альберту, дорогому моему покойничку, было двадцать три года, он родился как раз в девятисотом, а мне уже минуло пятьдесят пять. Все равно, лучшего выхода для него не придумаешь — он ведь был сиротой, мать у него была стыдно выговорить кто, а отца никто и не знал даже по имени. Первый мой муж в свое время взял его в дом шестнадцатилетним подростком, в школе он подвигался туго, особенно у него не ладилось с чтением и письмом. Женитьба все разрешила самым благородным образом — вдове ведь очень трудно уберечься от злословия, хотя у меня с дорогим покойничком Альбертом никогда ничего не было, даже и в супружестве, оно и понятно при такой разнице лет. К тому же наличность у меня невелика, надо было очень рассчитывать, чтобы прожить на доход с домов в Цюрихе и Куре. А дорогой покойничек Альберт разве выдержал бы, при своем скудоумии, суровую борьбу за существование? Он бы неизбежно погиб. Должны же мы помнить наш христианский долг перед ближним. Так мы с ним и жили честь по чести — он возился в доме и в саду. Не могу не похвастать — видный был мужчина, рослый и крепкий, и держался с достоинством, и одет был всегда строго и элегантно. Стыдиться его мне не приходилось, хотя он почти ничего не говорил, кроме как «Хорошо, мамочка, конечно, мамочка», зато слушался меня и мало пил. Вот поесть он любил, особенно лапшу и вообще всякое тесто и шоколад. Шоколад он прямо обожал. А так он был хороший человек и на всю жизнь остался хорошим, куда симпатичнее и послушнее того шофера, за которого четырьмя годами позже вышла моя сестрица, несмотря на своего полковника. Тому шоферу было тоже всего тридцать лет.
— Рассказывайте, госпожа Шротт, — донесся от окна невозмутимо беспощадный голос патера, когда старушка замолчала, все–таки немного утомившись, меж тем как я по–прежнему в простоте сердечной дожидался дарственной на неимущих полицейских.
Госпожа Шротт кивнула.
— Но вот, понимаете, господин начальник, — продолжала она свой рассказ, — в сороковых годах дорогой мой покойничек Альберт начал как–то сдавать. Сама не понимаю, чего ему недоставало, должно быть, у него что–то повредилось в голове. Он становился все молчаливее, все мрачнее. Бывало, уставится в одну точку, и слова из него не вытянешь целый день. Работу свою он выполнял исправно, так что выговаривать ему мне не приходилось, только по целым часам где–то разъезжал на велосипеде — может, на него так подействовала война или то, что его не взяли на военную службу. Почем я знаю: для нас, женщин, мужская душа — потемки! К тому же он становился все прожорливей: счастье, что у нас были свои куры и что мы разводили кроликов. Вот тут–то с дорогим моим покойничком Альбертом и приключилось то, о чем мне надо вам рассказать. Первый случай был к концу войны.
Она умолкла, потому что в палату опять вошла сестра с врачом, и оба занялись старушкой и аппаратурой. Доктор был белокурый немец, как из книжки с картинками, веселый бодрячок, в качестве дежурного совершавший воскресный обход. Как дела, госпожа Шротт, вы совсем молодцом, показатели великолепные. Чудно, чудно, только не падать духом!
И он проследовал дальше, сестра за ним, а патер потребовал:
— Рассказывайте, госпожа Шротт, рассказывайте, помните, ровно в одиннадцать — соборование.
Эта перспектива, по–видимому, ничуть не волновала старушку.
— Каждую неделю он ездил в Цюрих и возил яйца из–под кур моей милитаристке сестрице, — бодро возобновила она свой рассказ, — бедненький мой покойничек привязывал корзинку сзади к велосипеду и непременно возвращался под вечер, выезжал–то он очень рано, часов в шесть, в пять, всегда такой парадный, в черном костюме и котелке. Все ему приветливо кланялись, когда он катил по Куру, а потом дальше за город и все время напевал свою любимую песенку «Я молодой швейцарец, я родину люблю». В тот раз, через два дня после федерального праздника — день был жаркий, как и полагается в разгар лета, — вернулся он уже за полночь. Я слышала, что он долго возится и умывается в ванной, пошла посмотреть и увидела, что все у дорогого моего Альберта в крови, даже и костюм. «Господи, Альберт, душенька, что с тобой стряслось?» — спросила я. Он сперва выпучил на меня глаза, потом сказал: «Несчастный случай, мамочка, не пугайся, ступай спать, мамочка». Я и пошла спать, хотя и была удивлена, потому что никаких ран не заметила. Наутро, когда мы сидели за столом и он кушал яйца всмятку, как всегда четыре зараз, а к ним хлеб с мармеладом, я прочитала в газете, что в кантоне Санкт–Галлен зарезали маленькую девочку, по–видимому бритвой, и вдруг я вспомнила, что он прошлой ночью мыл в ванной свою бритву, хотя обычно бреется по утрам. Тут меня сразу осенило, я очень строго заговорила с ним. «Альберт, душенька, — сказала я, — ведь это ты зарезал девочку в кантоне Санкт–Галлен». Тут он перестал есть яйца, хлеб с мармеладом и соленые огурцы и сказал: «Да, мамочка, так было суждено, мне был голос свыше» — и снова взялся за еду. Я совсем расстроилась, оттого что он так серьезно болен. Мне было жаль девочку, я даже собралась протелефонировать доктору Зихлеру, не старику, а его сыну, он тоже толковый врач и отзывчивый человек. Но потом вспомнила про свою сестру, как бы она стала злорадствовать, как бы возликовала, и тогда я решила построже, порешительней поговорить с дорогим моим Альбертом и категорически заявила ему, чтобы это никогда, никогда больше не повторялось, и он сказал: «Хорошо, мамочка». — «Как же это получилось?» — спросила я. «Мамочка, — ответил он мне, — девочку в красном платьице с соломенными косичками я встречал всякий раз, как ездил в Цюрих через Ваттвиль. Это большой крюк, но с тех пор, как я увидел девочку у лесочка, голос свыше, мамочка, приказал мне делать этот крюк и еще голос свыше приказал мне поиграть с девочкой, а потом голос свыше приказал дать ей шоколадку, а потом уж мне пришлось убить девочку. Я тут ни при чем, мамочка, это все голос свыше. Потом я пошел в ближний лес, пролежал до темноты под кустом и только потом вернулся к тебе, мамочка». — «Альберт, душенька, — сказала я, — больше ты не будешь ездить к моей сестре на велосипеде, яйца можно отправлять посылкой». — «Хорошо, мамочка», — ответил он, густо намазал себе мармеладом еще один ломоть хлеба и пошел во двор. Надо мне сходить к патеру Беку, подумала я, пусть он построже поговорит с Альбертом, но тут я как выглянула в окно, как увидела, до чего усердно он трудится на самом припеке и безропотно, только немного печально латает крольчатник, до чего чисто выметен двор, так я и подумала: «Сделанного не поправишь, Альберт, мой голубчик, очень хороший человек, сердце у него, в сущности, золотое, а это никогда больше не повторится».