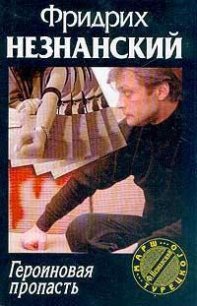Частное расследование - Незнанский Фридрих Евсеевич (серия книг .txt, .fb2) 📗
— А-а… А-а… И ты туда же! Внучек дедушкин!
— Да как же ты, Оля, не понимаешь, понять не хочешь? — взволновался Грамов. — Что я сделать ничего не могу?! Вот бабья-то натура странная! Устраивать тут бенц вселенский, вместо того чтоб вникнуть! Юрку твоего кремировали, понимаешь? Не понимаешь? Ах, да, ведь ты ж не знаешь, как обычно! — в голосе Грамова уже бушевал яд, сарказм, издевка: — Откуда ж знать тебе! Ну, как всегда! Конечно, ты ж тогда в гробу лежала, без проблем, когда мы все здесь белками крутились в колесе! Тебе же это невдомек, тебе же только там полеживать в гробу и «дай» потом! И внука подсылать…
Не обращая больше внимания на слезы дочери, Грамов продолжал бушевать, все более распаляясь.
— А как я дам вам, ты бы своим куриным мозгом, географ хренов, чуть прикинула бы: кремация… Остался газ от Юрки твоего! «Фу» осталось, ветер, атмосфера, ты его сачком поймаешь? Был Юрка ваш при жизни — студень, жидкость, знаешь, что такое «жидкость»? — В любой сосуд налить — и эту форму, ну, сосуда, принимает. Был жидкость, а после смерти — газ! И вылетел в трубу! В Никольском-то, со свистом! Все! Испарился. Вся информация утрачена, привет!
Оленька заголосила навзрыд.
— Нет! — Коля даже топнул ногой, рассвирепев от материнских слез сильнее деда: — Врешь!
— Я — вру?! — Грамов даже на полшага отступил.
— Ты! Врешь! Вся информация осталась!
— Да?! Где?! На небе? — Грамов потряс Библией. — Тут? На скрижалях?!
— Во мне!! — Коля ударил себя в грудь. — Сын! Что, съел?! — язвительно, с той же грамовской интонацией добавил Коля, видя, как дедушка вдруг как бы поперхнулся.
Оля, плач которой перешел в тихое всхлипывание, осторожно, исподлобья, косо скользнула по остекленевшему вдруг с Библией в руках отцу…
Взгляд Грамова — тяжелый и совершенно бессмысленный, неподвижно уперся в коридорную стену, проходя сквозь нее далее, в бесконечность.
Шмыгнув носом, Оля тихо дернула сына за рукав:
— Пойдем. Коль! Ну, пойдем. Все. Мы ему мешаем, разве ты не видишь? Дедушка задумался. Пойдем-ка. Все! И больше не мешай ему. Пойдем. Достаточно.
Покидая «городок Навроде», Турецкий оставил там Раг-дая: было бесчеловечно отрывать его от Анфисы.
— Я буду навещать тебя, животное. Не плачь, — сказал Турецкий на прощание.
Грамов, тоже собиравшийся исчезнуть где-нибудь не позже как весной отсюда— в другие веси, другие города, сказал Турецкому:
— Вы не волнуйтесь, Саша. Я присмотрю за ним. Людям здесь, оно конечно, душновато, а вот собакам — в самый раз. — Грамов подмигнул Навроде, своему однокласснику…
— Вот скотина, — сказал Навроде, трепля загривок Раг-дая, но глядя на Грамова…
Только в апреле 1994-го Турецкий снова встретился с Грамовым. Тот сам позвонил ему и сказал, что у них остался один общий «висяк», требующий завершения.
А потом Грамов сам заехал за ним на своем стареньком сороковом «Москвиче».
Молча выехали на Садовое, свернули к Курскому. Таганка. Левый поворот, набережная. Еще раз левый поворот, и вот он — Новоспасский монастырь.
— Здесь теперь живет один наш общий знакомый, — заметил Грамов. — Не знаю только, помните ли вы его.
— Не понимаю даже, о ком вы.
— А-а… Я-то помню. Вы сами же рассказывали. Как один человек просил вас, если узнаете одну весьма заинтересовавшую, занозой впившуюся в его разум вещь, то расскажете ему разгадку. Вспомнили, о ком я? Общий наш знакомый. Мой друг один. Что — нет?
— Нет. Признаться, нет.
— Он стал монахом… Ушел от мира. Принял постриг. Ну, впрочем, сейчас увидите и вспомните, конечно.
Смиренный инок, бывший в миру Ильей Андреевичем Вощагиным, директором «Химбиофизики», а затем, там же, начальником группы режима, увидев живого Грамова, всплеснул руками.
Оба прослезились.
— Услышал Бог мои молитвы… Послал успокоения ради мне видение… Снизошел…
— Какое ж я видение? — обиделся Грамов. — Я, понимаешь, Библию всю проштудировал, четыре Евангелия все, Заветы— тебя ради, стремясь понять тебя. А ты— «видение»… Ну, порадовал!
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— С какой же целью ты явился мне?
— Да просто. Теперь можно стало. И объяснить про Гришу. Про орангутанга. Помнишь? Его не КГБ стащило. Спер я. Теперь могу сознаться.
— Быть не может!
— Уж ты поверь.
— Нет, в это я не верю! Я этого не понимаю, не пойму. И ты, и ты… Вы все вдруг стали выгораживать. Тогда, ну, когда сие было весьма небезопасно, ты смело свое мнение выражал… Всегда! А вот теперь поветрие пошло: что во всем виноваты мы сами… В убийствах, крови, голоде, в раскулачивании! Не Сталин, не Берия, не Гитлер… Сами, сами! Мы грешны сами, кто же спорит? Но брать чужое святотатство на себя, то дело дьявольское! Ты объясни, я все же уразуметь попробую, зачем тебе, мученическую смерть приявшему, в огонь пошедшему, но не сломленному, тем паче, воссевшему на Небесах ошуюю…
— Нет, одесную.
— И даже так… Зачем тебе чекистский грех воровства брать на себя? С чего? Зачем тебя Он посылает выгораживать Лубянки семя сатанинское? Скажи или изыди!
— Изыду. Скоро уж изыду. — Грамов понял, что последующий разговор бессмыслен. — Для искушения послан я Но, видя стойкость твоей веры, Илия…
— Теперь Фома я.
— Очень точно. Вполне подходит. Я явился лишь навестить тебя… Порадовать. И самому порадоваться… Я улетаю скоро — на два года. Поработать. Там…
— Там? Понятно… Ты и там работаешь?
— А как же! Там-то и работать только. Ведь здесь условий — никаких.
— Не забывай про нас там… Русь святую…
— Ну, Русь, эк сказанул! Захочешь — не забудешь!
Прощаясь, они повторно обнялись и прослезились.
— Вернусь годочка через два.
— Да. Да… — Вощагин вытер слезы. — Вернись, Фому наведай перед его кончиной.
— О! До кончины мы еще с тобой… Ну ладно. Это лучше после… Ты постись не шибко. Отдыхай. А то ишь, исхудал: скелет один остался. И две таблетки аспирина на ночь. Да. Без шуток. Я весточку тебе пришлю — оттуда.
В конце мая вся семья Грамовых уже разлетелась назад, по прежним адресам Москвы, «натурализовавшись» в новой жизни.
Сам Грамов, «выведя детей-внуков в штатный режим», улетел вдвоем с женой в Штаты, имея цель сначала попро-фессорствовать, поработать год-полтора в Массачусетсе, а затем «оттянуться» в Канаде, где-то в районе Большого Невольничьего озера, просто отдохнуть, пожить в избушке: Грамов очень любил эти джеклондоновские северные суровые места.
Турецкий и Меркулов приехали проводить его в Шереметьево-2.
Запомнилось, как, проходя пограничный контроль, в ответ на требование «Ваши паспорта!» Грамов еле протиснул руку туда, под стекло, в кабинку к пограничнику и там уже, с трудом, прямо перед носом капитана-пограна, сложил руку кукишем…
Капитан, ничуть не удивясь, осветил ультрафиолетом кукиш Грамова и, подышав затем на штамп, с размаху, с чмоканьем поставил выездную визу — себе на лоб. После чего кивнул супругам Грамовым:
— Все, проходите!
Стоящие вслед за Грамовым люди, конечно, деликатно промолчали, хоть и были изумлены немного.
Какой же российский гражданин не знает, что на границе лучше промолчать…
Ведь тише едешь — дальше будешь.
12
Антонина Степановна, женщина преклонных лет, ворочалась среди ночи, никак не могла уснуть. Сначала, как обычно, ее одолевали мысли о прошедшем дне: она любила анализировать все траты, произведенные за день, даже самые незначительные. Потом, как водится, мысли ее перекинулись на день грядущий. Однако ближайшее будущее не сулило Антонине Степановне ничего хорошего, и поэтому она, поворочавшись и повздыхав, принялась считать и прикидывать, как бы растянуть три с половиной тысячи рублей на восемь оставшихся до пенсии дней…
Но заснуть не смогла.
Мешал ей тихий, назойливый звук, исходящий непонятно откуда. Антонина Степановна села на кровати, покрутила головой.