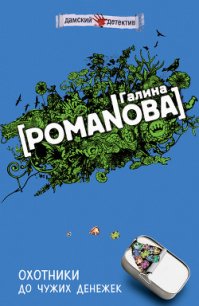Осколки ледяной души - Романова Галина Владимировна (лучшие книги .txt) 📗
Курица по вкусовым качествам ничуть не уступала щам. Они хватали большие сочные куски, обгладывали с косточек мягкое нежное мясо и жмурились от удовольствия.
– Слушай, а ей-то мы оставим или нет? – вдруг всполошился Кирилл.
– Надо бы... – Степан заглянул в кастрюльку. В жирной морковной подливке сиротливо болталось одинокое крылышко. – Кажется, мы с тобой все съели. О как!
– Ладно, старик, не парься. Время позднее, ей на ночь наедаться вредно. Такую фигуру нужно блюсти. Давай сюда, что там еще осталось...
Они съели все и макали потом хлебные корки в подливку, цепляя морковку с луком и отправляя в рот. Вымыли посуду. Посмотрели телевизор. Поговорили. Украдкой друг от друга смотрели на часы и, каждый по-своему, волновались из-за ее долгого отсутствия.
Потом Кирюхе позвонила мать и со слезами в голосе потребовала немедленно приехать. Тот нехотя уехал, оставив Степана в одиночестве.
Тишина пустого вечера тут же начала давить ему на уши, снова заставив нервничать.
Сидел бы сейчас в баре, отдыхал. Снял бы девочку, развлекся бы. А вместо этого что? Сидит и, как болван, слушает шум лифта в подъезде.
Куда ее унесло на ночь глядя, а?
Какое-то время Степан еще посмотрел футбольный матч, потом оделся и вышел на улицу.
Там было темно, свежо и тянуло сыростью скорого дождя.
У подъездной двери отирались подростки, воровато пряча в рукава сигаретки. Хором поздоровались и растворились куда-то, пока он оглядывал двор.
Двор как двор. Автостоянка на пятнадцать машин. Его место было третьим справа. Это было их негласное соседское соглашение – у каждого свое место, и ни-ни на чужое. У каждого подъезда, а их было всего-то два, по две лавочки, кустарники, чахлые липки. В дальнем углу несколько ракушек, предмет постоянных визитов представителей инспектирующих организаций. И ни одного фонаря. Ни одного...
Пойдет через двор, прицепится кто-нибудь в такой темноте. Перепугает. И даже если она кричать начнет, он не услышит. Все до единого окна выходят на противоположную сторону. Это он про Верещагину подумал мимоходом. А сам тем временем шагал к машине.
«Фольцушка» приветливо мигнул фарами, щелкнув замками. Степан сел за руль, привычно втянул в себя запах кожи и автомобильной синтетики и задумался.
Куда ехать? Где искать? И самое главное, нужно ли?..
Она могла быть где угодно. Могла быть дома, что, по его мнению, исключается. Могла поехать навестить дочь с бывшим мужем. Наверняка скучает. А могла рвануть к матери, что-то такое она про ее существование говорила.
Итак, что? Искать или нет?
Степан достал мобильник и долго вспоминал тот самый записанный для Ираиды Васильевны на клочке бумаги ее номер. Вспомнив, начал набирать.
643-38-95, так, кажется. Ему долго не отвечали. Потом звонкий девичий голосок намекнул ему, что он, возможно, ошибся. Татьяна есть, но ей пока четыре месяца и подойти к телефону она не сможет. Девчушка хихикнула и положила трубку. Степан понял, в чем дело. Он по ошибке переставил 95 и 38. Набрал снова и долго слушал длинные протяжные гудки.
Где же она может быть...
Он уже хотел отключаться, когда трубку сняли. Сняли и тут же положили обратно.
Понятно, скрипнул зубами Степан и с визгом подал машину назад.
Сидит, значит, дома и ждет чего-то. А может, плачет? Может быть. У нее сегодня глаза на мокром месте. Хотя могла и за тапочками домой поехать. Наверняка забыла их, если разгуливала по его квартире в одних колготках.
Дом, в котором жила Верещагина, он знал хорошо. По условиям их трудового соглашения, ему иногда надлежало забирать ее именно от подъезда. Один раз даже к ней в квартиру позвонил. Не выдержали нервы, когда она замешкалась. У нее, видите ли, фен сгорел. А ему что? Сидеть в машине и злиться ее долгому отсутствию? Не мальчик, чтобы за две тысячи над ним так потешались...
Степан въехал во двор и осторожно пристроил машину рядом с бордюром. Упаси господь на него въехать! Лишь однажды он допустил подобную оплошность. Тут же из подъезда выскочила разъяренная тетка и принялась кружить вокруг машины и орать, и тыкать в него пальцем, и поливать на чем свет стоит.
Сейчас он сделал все пристойно. Припарковался в полуметре от белеющего бордюрного камня. Огляделся и поднял голову к окнам Верещагиной. Странно, конечно, но света в них не было. В темноте, что ли, сидит? Или уйти успела? Уйти не должна была. Он еще раз ей звонил, перед тем как въехать во двор. И снова, как в прошлый раз, трубку сняли и тут же бросили, не удостоив ответом.
Страдает, решил Степан, поднимаясь по ступенькам к лифту.
Никого мы не желаем видеть. Никого не станем слушать. А будем сидеть в темноте, упиваться страданием и жалеть себя, жалеть, жалеть до слез. Так, кажется, у женщин все это происходит. А чтобы никто не подумал, что она дома, сидит без света и на звонки не отвечает... почти.
Он позвонил в дверь к Татьяне и долго слушал, как скачет одиноко по квартире мелодичная трель. Никто не открыл. Он снова звонил и снова слушал, а потом еще и еще.
– Черт знает что! – озверел Степан и, шарахнув что есть мочи по двери ладонью, закричал: – Татьяна!
Она открыла, наконец-то. Щелкнул замок, дверь распахнулась, и Степан вошел внутрь.
– Чего без света сидишь, делать нечего? – спросил он уже тише, когда дверь за ним захлопнулась с мягким щелчком. – Где он тут, твой выключатель?
И Степан, расставив руки в стороны, принялся шарить по стенам в поисках выключателя. Стоять в темноте, слушать ее дыхание и не видеть ее при этом было неприятно.
– Тань, что за фигня, не пойму? Где тут он у тебя?
Он его нашел, но свет не зажегся. Степан несколько раз щелкнул им вверх-вниз, безрезультатно.
– Фонарь есть? – спросил он, так и не получив от Верещагиной никакого ответа.
И вот тут...
Потом он долго пытался вспомнить, в какой именно момент понял, что тот, кто стоит напротив и шумно дышит почти ему в лицо, это не Татьяна. Чуть раньше того, как получил сокрушительный удар в висок, или в момент удара? Нет, наверняка раньше. Не мог он мыслить в то мгновение, когда голова, казалось, взорвалась тысячью огненных брызг, а затем наступила беспросветная чернота. Не мог...
Он понял это раньше, но сделать ничего не успел. Не успел отойти в сторону или чуть пригнуться, чтобы принять этот удар. Его ударили. Сильно ударили, но не настолько, чтобы он потерял сознание. Темнота, видимо, помешала. Степан упал вниз лицом и, кажется, закрыл глаза. А может, они сами закрылись. Или и не закрывались вовсе. Темно же было, пойди разберись, когда в башке все звенит и колотится и сил совсем нет подняться с пола. Хорошо, что хоть слуха он не лишился.
Слышал... Слышал отлично, как неторопливо ходит по квартире Верещагиной тот, кто его ударил. То подойдет поближе, то снова звук шагов слышен из другой комнаты. Однажды даже споткнулся об него лежащего. Споткнулся и чертыхнулся еле слышно. Но Степан все равно различил, что голос принадлежит мужчине.
Кто это такой? Зачем он здесь? Почему снимал телефонную трубку? И где, черт возьми, Верещагина?!
А может... Может, это она снимала трубку?! А потом явился этот умник и сделал с ней то же самое, что и с ним, или еще чего похуже?! О, боже правый!
Вот тут Степан точно зажмурился. Темнее не стало, но ужас при мысли о том, что Верещагина может сейчас лежать где-нибудь в глубине квартиры с рассеченным черепом, вызвала у него острый приступ тошноты.
Зарекался же!.. Зарекался не влезать ни в какие дурацкие истории! Не замечать, не свидетельствовать, не участвовать и не сочувствовать. Его отец умер, вступившись за соседского мальчишку. Его так отвалтузили за участие, что, проболев почти год, он умер. Мать всю свою оставшуюся жизнь заклинала его: никогда и ни во что не вмешивайся и по возможности проходи мимо. Он ей обещал. Клятвенно обещал. И даже обещал никогда не влюбляться без памяти, чтобы не доставлять себе лишних хлопот и сумасшедшей боли. Все ведь шло так хорошо и беспроблемно. Так нет, нате вам! Мало того, что пошел на поводу у бабы, которая ему даже не нравилась, не говоря уж о чем-то еще. Так теперь по ее вине попал в такое дерьмо, из которого непонятно как теперь им обоим выбираться.