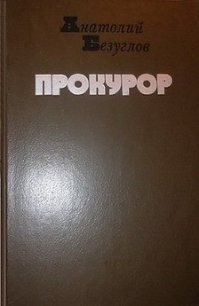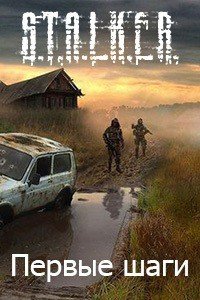Записки прокурора - Безуглов Анатолий Алексеевич (книги без сокращений TXT) 📗
— И все-таки она была замешана?
— Была.
— Значит, из-за этого решилась на самоубийство?
— Простите, товарищ прокурор, но опять же сейчас категорически утверждать…
— Ладно, подождём… Так как же с Домовым? Из найденного при обыске хоть что-нибудь приоткрывает завесу над его личностью?
Жаров развёл руками:
— Ни одной фамилии. Фотография, правда, имеется. Посмотрите в папке…
На меня смотрел в витиеватом медальоне красавчик с безукоризненным пробором. Брови — изломанным разлётом, губы полные, чувственные и ослепительный ряд зубов. В вязь виньетки вплетены слова: «Люби меня, как я тётя». И подпись: «Фотоателье No 4 гор. Зорянска».
— Мастерская закрылась в пятидесятом году, — пояснил следователь. — Никаких, конечно, следов от неё. Стояла на улице Кирова. Теперь на том месте кинотеатр «Космос».
— Этому портрету лет немало, — подтвердил я. — И все-таки вы его поисследуйте.
— Разумеется, товарищ прокурор… А ещё двенадцать папок с нотами…
— Какими нотами?
— Написанными от руки. Я их вам не привёз, вот такая кипа, — Жаров показал рукой метра на полтора от пола. — На чердаке лежали… А вот эти, — он показал ноты, — в сундуке нашли, где Домовой жил. Всю ночь разбирал. Только названия и ноты. И опять же — ни даты, ни подписи, ничего. Причём названия написаны печатными буквами. Наверное, для понятности.
— Чьи это произведения?
— В музыке я, прямо скажем, не силён. Но известные имена, конечно, знаю. — Надо проиграть на аккордеоне, — уклончиво сказал Жаров.
— Вы играете? — Это была для меня новость.
— Немного, — смутился следователь. — В армии записался в самодеятельность. А вернулся, купил инструмент. Недорогой. Все собираюсь заняться, да нет времени…
— Что ещё помимо нот?
— Два письма. Личного содержания. Судя по почерку и именам отправителей, — от двух разных людей…
Я ознакомился с письмами.
«Лера! Я хочу с тобой встретиться. Очень. Но как это сделать, не знаю. Могла бы ты опять приехать к нам? Все тебе рады, ты это знаешь. А обо мне и говорить нечего. Меня беспокоит тон твоего последнего письма. Вернее, твоё настроение. С чего ты взяла, что мои чувства изменились? Этого не будет никогда. Более того, чем дольше я тебя не вижу, тем вспоминаю сильнее. Иной раз берет такая тоска, что готов бежать в Зорянск, лишь бы тебя увидеть. Пишу тебе чистую правду. А все твои сомнения, наверное, оттого, что мы редко встречаемся. Поверь, как только мы встретимся, поймёшь: я по-прежнему (даже в тысячу раз больше) тебя люблю. Целую. Геннадий. Пиши обязательно. 12 апреля 1941 года. Гена».
«Лерочка, милая! Ты веришь в сны? Если нет, то обязательно верь. Верь! Мне приснился лес, и мы с тобой что-то собираем. Но мне почему-то все время попадаются грибы, а тебе — земляника. Хочу найти хотя бы одну ягоду, а все передо мной только боровики и подосиновики. Главное, ты идёшь рядом и все время показываешь мне, какую большую сорвала ягоду. Потом мы попали в какую-то комнату, полную людей. И все незнакомые. Я потерял тебя. Вернее, знаю, что ты здесь, сейчас мы увидимся. Но мне мешает пройти лукошко. А кто-то говорит: „Смотрите, какая у него земляника!“ Я смотрю, а у меня в лукошке не грибы, а земляника. Думаю, когда мы поменялись? Но ведь я точно помню, что мы не менялись. С тем и проснулся. Пошёл для смеха узнать у одной старушки, что все сие означает? Она сказала, что земляника к добру, что если твоё лукошко оказалось в моих руках, это к нашему обоюдному счастью. А грибы — плохо, особенно белые: к войне. Ну, насчёт войны наверняка чушь. А земляника — правда. Я в это уверовал.
Напиши, может, и тебе я снюсь? Как? Старушка — настоящая колдунья, разгадает.
Жду с нетерпением ответа, крепко целую, люблю, твой Павел».
Даты не было. Я повертел в руках пожелтевшие от времени листки бумаги и спросил:
— Где обнаружили?
— В старой дамской сумочке, где хранились документы Митенковой: паспорт, профсоюзный билет, извещение о смерти отца и несколько семейных фотографий.
— Кто такие Геннадий и Павел, откуда писано?
— Неизвестно, — ответил Жаров.
Я разложил на столе шесть фотоснимков. Очень старых.
— А кто на семейных фотографиях, как вы думаете?
Жаров подошёл и стал рядом:
— Это, конечно, вся семья Митенковых — мать, отец, дочь, сын. А тут отдельно брат и сестра… В общем, никого посторонних.
— Да, скорее всего это так.
— Симпатичная была Митенкова в молодости, — сказал следователь.
— Очень… Значит, все?
— Пожалуй, все.
— Маловато.
— Конечно, мало, — согласился Жаров. — Подождём, что сумеет сделать Межерицкий. Он опытный врач. Ведь когда-то же заговорит Домовой. Не может человек все время молчать…
…Борису Матвеевичу Межерицкому я тоже верил. Когда мы приехали в Литвиново, он к Домовому нас не пустил. И разговаривали мы у него в кабинете.
— Спит пайщик, — сказал Межерицкий.
Психиатр называл всех своих подопечных «пайщиками». Он усадил нас в удобные кресла, затянутые в чехлы, и начал балагурить в своей обычной манере.
— Спирт я тебе, Захар Петрович, не предлагаю, знаю, что любишь коньяк.
Я сделал жест, потому что если что и предпочитал к празднику, это хороший добротный портвейн. Хорошо — массандровский. Но врач, не моргнув, продолжал:
— А молодому человеку, — он кивнул на следователя, — пить рано.
Борис Матвеевич вообще не пил. Но шутил без тени улыбки на лице, что сбивало с толку Жарова.
— Борис Матвеевич, скажи откровенно: можно из старика что-нибудь выудить?
— Можно. Целый учебник по психиатрии. Амнезия, астения, атония, меланхолия… Неврастенический синдром. Психогенный или же на почве склероза мозга… Хочешь ещё?
— А в переводе на русский?
— Прекрасный экземпляр неврастеника — это поймёшь без перевода. Выпадение памяти. Забыл, что с ним. Все забыл. Общая слабость, отсутствие тонуса, тоскливое, подавленное состояние…
— Плачет или молчит… — вспомнил я слова Жарова.
— И не спит. Я приучаю его к седуксену… Одно, Захар Петрович, пока не ясно. Это из-за какой-нибудь психической травмы или от склероза, который, увы, вряд ли минет и нас… Кстати, по-моему, пайщику годков пятьдесят пять…
— Не может быть! Он же глубокий старик! — воскликнул молчавший до сих пор следователь.
— В его положении он ещё хорошо выглядит, — сказал Борис Матвеевич. — Мы с вами выглядели бы хуже. Ему мало было неврастении. Стенокардия… Неплохой набор, а? — Немного помолчав, психиатр спросил: — Кто же и где его так, сердешного, замордовал?
— Вот, ищем, — ответил я, кивнув на Жарова.
— И долго он жил в своём особняке? — Врач очертил в воздухе форму ящика.
— Не знаем, — коротко ответил я. — Мы о нем ничего не знаем. И, честно, надеялись, что поможет медицина…
— Да, загадка не из лёгких. — Межерицкий задумался. — Психиатру, как никому из врачей, нужна предыстория… Конечно, хирургу или урологу тоже… Но нам знать прошлое просто необходимо. Как воздух. Так что прошу уж любую деталь, малейшие сведения из его жизни от меня не скрывать.
— Разумеется, — подтвердил я.
От Межерицкого я вышел, честно говоря, несколько разочарованный. То, что сообщил Борис Матвеевич, могло задержать выяснение личности Домового на долгое время.
— Умный мужик, — сказал о враче Жаров, когда мы сели в «газик».
И мне было приятно, что мой приятель понравился следователю.
— Да, опытный психиатр, — кивнул я. — И если он пока не может нам помочь, значит, это так… Во всяком случае условия созданы все. Отдельная палата. Все время дежурит сестра…
— И вообще больница в красивом месте. — Жаров показал на прекрасный осенний лес, проплывающий за окном машины.
— По мне лучше в безводной пустыне, — откликнулся шофёр, — чем в психиатричке…
Шофёр Слава был парень крутой. И на все имел своё суждение. Иногда очень точное и справедливое.
— Это конечно, — подтвердил следователь. — Да какая больница может нравиться?