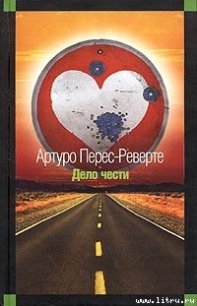Терпеливый снайпер - Перес-Реверте Артуро (полная версия книги txt) 📗
– Несмотря на то что тебя подстрелили?
Он рассмеялся:
– Несмотря. Впрочем, там была одна тонкость.
– Какая?
И он рассказал. Шесть лет назад, когда еще подписывался Спак, он сумел проникнуть в тупик Центрального вокзала. В компании с еще двумя райтерами и с намерением сделать family couple, то есть расписать три вагона до самой крыши. Перелезли через ограду и ползком благополучно добрались до состава, причем спреи с краской были у них в пластиковых пакетах на тот случай, чтобы, если придется удирать, то налегке. Паломбо уже сделал контуры и наносил краску на свой вагон, когда его внезапно ослепил свет фонаря. Он бросился бежать и тут услышал хлопок, потом почувствовал толчок в спину, упал и потерял сознание. Очнулся на следующий день в больнице.
– Этот случай меня прославил. А слава помогла мне перепрыгнуть к серьезному искусству. Я выставил в одной миланской галерее фотографии моих граффити на вагонах, а дальше было уже совсем просто. И сюда вернулся местной звездой. В Неаполе, если получил пулю от полицейского, – ты уважаемый человек. Тебе можно верить.
– А раньше горбунчики тебе не верили?
– Да они разные бывают. Если б я остался работать на улице, стал бы для них героем. Но я выбрал эту дорогу. Стал кормиться системой. Мои картины уходят на аукционах за двенадцать-пятнадцать тысяч евро, выставляются в галереях, и потому они меня считают предателем и продажной тварью. Они радикально против любой легальности в том, что касается граффити. И потому так обожают Снайпера.
– Надо найти способ подобраться к ним поближе.
– Это не ко мне.
– Я прошу тебя.
– Мне с этого никаких радостей, – сказал он, скривив губы. – Кроме неприятностей.
– Ты не похож на человека, который пасует перед неприятностями.
Избегая моего взгляда, Паломбо ответил:
– Я не боюсь, пойми. Просто знаю, что это за публика. И иметь с ней дела не хочу. Все на этом.
Ему явно было не по себе, как бывает, когда чувствуешь, что оказался недостаточно гостеприимным хозяином. Он прошелся по студии, безо всякой необходимости что-то там переставив. Потом, помолчав, осведомился:
– С чего такой интерес?
– Я ведь тебе еще по телефону сказала: готовлю книгу. Каталог, – ответила я вполне искренне. – Очень важный и рассчитанный на экспозиции самого высокого уровня. Снайпер должен в нем быть.
– Это-то я понимаю. Должен. Место ему – в любом музее мира. За его работы отдали бы огромные деньги. Однако я не верю, что он пойдет на такое. Не из тех он.
– Но ведь это вызов… Искусить его, как дьявол искушал Иисуса в пустыне. Неужели дело того не стоит, а? Искусить самого Снайпера.
Он смотрел на меня оценивающе.
– И многим?
– Всем! И я говорю не только о деньгах.
– Да ему любой это предложит.
– Предложение от людей, которые стоят за мной, будет другого уровня.
Он медленно подошел вплотную. Наклонил голову, скривил губы, словно ставя себя на место человека, по следу которого я шла.
– А ты считаешь, Снайпер искренен?
Он ответил не сразу. Постоял еще, сунув руки в карманы, опустив голову и кривя рот. И наконец ответил:
– Не знаю. Не знаю. Иные уверяют, что да. Но ведь у каждого из нас есть своя цена и своя стратегия. А он…
И осекся, но я поняла недосказанное. Как видно, его не впервые пытали на этот счет. Собачки обнюхивались. И ведь в Мадриде Крот говорил мне точно то же самое.
– Стратегия, – повторила я, ограничившись одним этим словом.
– Не исключено.
И он снова замолчал, но смысл высказывания был мне, разумеется, ясен. Достаточно я прожила на свете и повидала в жизни, чтобы понять. Таково уж свойство человеческой натуры: сдавший свои позиции нуждается в себе подобных, как предателю хочется, чтобы все вокруг предавали. Это утешает, это оправдывает в собственных глазах и позволяет спать спокойно. Большую часть жизни человек ищет зацепки и объяснения, чтобы совесть не мучила. Чтобы выбросить из головы компромиссы и капитуляции. Подлость ближнего умеряет подлость собственную. Этим и объясняется опасливое отношение к тем, кто не сдался, неловкость перед ними, иногда переходящая в откровенную злобу.
– Он чересчур совершенен, – заметила я. – А? Тебе не кажется?
– Снайпер-то? Да, может быть… Вот пусть таким и остается.
Я рассмеялась и с немой укоризной показала ему мой пустой бокал.
– В жизни не поверю, будто тебя не тешит эта картина – неколебимый Снайпер перебарывает искушение… Если он ведет такую игру, может быть, пришло время и выиграть.
Паломбо задумчиво налил мне вина. Живые глаза внимательно всматривались в меня. Казалось, он был в нерешительности. Через минуту он тоже улыбнулся:
– У меня есть друг. А он, кажется, друг его друзей.
Расставшись с Нико Паломбо, я медленно пошла между выносными лотками книжных магазинов, тянувшихся под аркой Порт’Альба до самой площади Данте. И рассеянно поглядывала на выставленные книги, размышляя о свидании, которое Нико пообещал устроить мне вечером, как вдруг под самой аркой мне почудилось присутствие того самого господина с рыжеватыми усами, чуть подвитыми на концах. Того самого, что был в Лиссабоне и в Вероне. Сейчас у него на голове не было твидовой шляпы, а на плечах – зеленого пальто: одет он был в светло-коричневую замшевую куртку, но, кажется, я узнала и тучную фигуру, и лицо, с преувеличенным вниманием склоненное к витрине магазина, где продавалась научно-популярная литература. Не торопясь, чтобы не спугнуть его, показав, что заметила, я прошла еще немного вперед, но когда уже на углу площади остановилась и оглянулась, делая вид, что рассматриваю открытки, мой преследователь уже исчез. Так или иначе я ожидала чего-то подобного, а потому мысль о том, что за мной проследили до Неаполя, не особенно встревожила меня. Тем не менее на всякий случай я вернулась туда, откуда пришла, и села на террасе на площади Беллини, откуда могла держать в поле зрения всю улицу. И просидела полчаса, скоротав это время за пиццей (довольно средненькой) и кофе (хорошим). Потом встала, еще полчаса шла до галереи Умберто Первого, а там, так и не обнаружив ничего подозрительного, снова села на террасе кафе. И лишь после этого направилась в отель.
Он был передо мной, на экране моего компьютера. Архивный ролик канала «Теленаполи»: двадцать четыре минуты о забастовке мусорщиков, полгода назад превратившей город в форменную свалку. На сменявших друг друга кадрах громоздились груды отбросов в мешках и без, ярились профсоюзники, растерянно блеяли представители городских властей, горожане зажимали нос от смрада, проходя мимо, или в микрофон сообщали о своем неудовольствии. На середине репортажа камера показала стены, покрытые граффити, на которых последними словами крыли муниципалитет, а на семнадцатой минуте появился Снайпер. Он давал интервью ночью, на улице, на фоне огромной композиции, освещенной уличным фонарем, и я смогла оценить ее, несмотря на бурую крупнозернистую картинку. От такого освещения возник эффект контражура, и потому лицо Снайпера под низко надвинутым темным капюшоном оставалось в тени.
Он оказался высок ростом и очень худ. Снимали его средним планом – от пояса и выше, и капюшон на затененном лице придавал ему внушительное сходство со средневековым монахом, инквизитором или каким-то таинственным воином; порой, когда он жестикулировал, в кадр попадали тонкие руки с длинными пальцами – ни перстней на них, ни часов на запястье я не заметила. Голос был приятный – с легкой мужественной хрипотцой. По-итальянски он изъяснялся очень правильно, почти не хуже меня, а говорил о только что расписанной им стене, на которой в это самое время другие райтеры – эти самые горбунчики, как я поняла, – повернувшись спиной к объективу, завершали работу. Выступление продолжалось полминуты и не содержало ничего нового или оригинального – солидарность с народом Неаполя… граффити как средство выражения не признает ни властей, ни иерархий… уличное искусство разоблачает высокомерную ложь коррумпированных институций… и тому прочее. Интересны были тон и манера речи. Та холодная уверенность, с которой он называл причины, сделавшие, по его мнению, эту забастовку в Неаполе символом распада глупого мира, самоубийственно убежденного в собственной значимости. Стоя на фоне граффити, изображавшего колосса с черепом вместо головы и мешками для мусора вместо ног, он говорил, что горы отбросов – вот единственно возможное сейчас искусство: это – акция, которую город, импровизированный музей на свежем, то есть тошнотворно смрадном, воздухе предлагает миру как символ и как предупреждение.