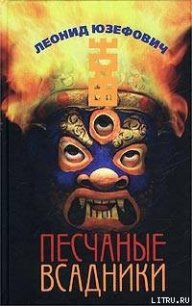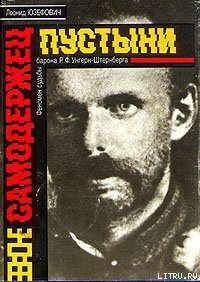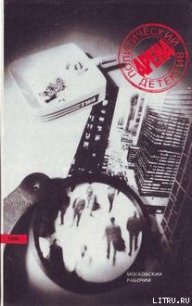Клуб «Эсперо» - Юзефович Леонид Абрамович (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно TXT) 📗
— А ночью за нами в училище для чего пошел?
— Так… Вы пошли, и я пошел. Понять хотел, кто вы такие, испирантисты.
— Ты же человека убил, — сказал Семченко. — Понимаешь?
— Ага, — кивнул Генька.
— Чего «ага»?
— Понимаю… Вы с Вадькой говорили ночью, я понял.
— И что делать собирался, когда понял?
— Не знаю… Думал.
— Думал? Ах ты, гаденыш! — Схватил его, подержал, скручивая на груди рубаху, и опять швырнул к бричке. — Лезь!
Генька не устоял на ногах, ткнулся лицом в ступицу. Кровь потекла по губе.
— Вставай! — крикнул Семченко.
Наденька налетела сзади, повисла на руке:
— Не смейте его бить!
— Убить его мало, — сказал Семченко.
Не вставая, Генька перевернулся на спину, провел по разбитой губе тыльем ладони. На дорогу сорвалась красная капля, мгновенно обросшая пылью.
— Сука ты, — тихо проговорил он. — Теперь я тебя понял. Испирантист, сука! Чистеньким хочешь быть? Об меня не замараться? На! — Генька вытянул руку и мазнул Семченко по галифе над сапогом, оставив на сукне две бурые полоски. — Вожжи, и те не сменил. Козел! Будто и не знал, из чего они… А учителка та? Заседательница? Как она на тебя смотрела-то? Разве не облизывала. Нарочно свою бабу подсадил, чтоб она всем рты затыкала? Молчишь, сука?
— Ну, ты! — Семченко нагнулся над ним, и в ту же секунду Генька лягнул его ботинком по руке.
Подхватив выпавший браунинг, отбежал шагов за десять и приставил дуло к виску.
— Смотри, сука! Из-за тебя я ее убил. А теперь сам себя кончу… Смотри, не отворачивайся! Две смерти на твоей совести!
— Ге-енька! — хрипло и почти безголосо выдохнула Наденька. — Не надо! Как же я-то?
Генька изумленно покосился на нее, не убирая дуло от виска.
— Люблю ведь я тебя, Генечка! Давно люблю… А ты и не знал, глупый? Глупенький мой. — Она сделала шаг по направлению к нему, еще шаг. — Сперва меня убей… Без тебя-то я как же?
Кабаков застыл с разинутым ртом, и Семченко не двигался, понимая, что первое его движение заставит Геньку надавить на спуск.
Опасливо, словно по канату, Наденька приближалась к нему, приговаривая:
— Глупенький ты мой… Не знал? Давай-ка его сюда, глупенький…
Генька опустил руку, и она бережно вынула у него из пальцев браунинг.
— Вот балбес! — Лицо ее сразу стало другим — жестким и усталым. — Спятил? В тюрьме посидишь, поумнеешь.
Она отдала браунинг Семченко, взяла Кабакова под руку, а Генька вдруг жалко сморщился, шмыгнул носом и заревел, размазывая по щекам кровь и слезы.
— Значит, так, — спокойно сказал Семченко. — Час тебе на размышление, и куда хочешь девайся из города. Застану тебя, сам виноват. Ясно?
Стало тихо, и все услышали, как верещит в доме ходыревский младенец.
— А его куда? — спросил Генька. — Мамка через два часа придет.
— Ну, два часа, — накинул Семченко. — И на юг подавайся, там в Красную Армию запишешься.
Понуро, ни на кого не глядя, Генька побрел к воротам.
Семченко отвязал вожжи, похлопал по грязно-белым параллелям и меридианам на морде у Глобуса, и даже кличка этого рыжего мерина показалась не случайностью, а намеком судьбы: именно такое имя должно быть у лошади, которая возит члена правления клуба «Эсперо». Иначе и Казароза бы не погибла. Но кто же знал? Он залез в бричку. Наденька стояла у ворот под руку с Кабаковым, тополиный пух мело по улице, сквозь мелькание пушинок Семченко видел их как бы вдалеке, за метелью. Георгины пылали в ходыревском палисаднике, младенец умолк. Легкая тень философа Флорина парила над городом в обнимку с тенью доктора Заменгофа — тяжелой и плотной, обоих сносило в сторону реки, они барахтались в воздушном потоке, кувыркались уже над шпилем Спасо-Преображенского собора, но никто их не замечал, кроме него, Семченко. Он развернул бричку, теперь ветер дул в лицо, и всю его прежнюю жизнь отдувало назад этой июльской метелью. Ведь вот же как все сцепилось там, в прежней жизни: Казароза, эсперантизм, Глобус, Генька Ходырев, приводные ремни, коза Билька, всеобщее счастье… Дальше он думать не стал, потому что и так ясно было: все в мире лежит рядом, откликается одно в другом — люди, вещи и животные, и в этом была надежда, что когда-нибудь все они научатся понимать друг друга. Все жили одной жизнью, и никакой иной, нарочно кем-то придуманной, быть не могло, просто жизнь.
Генька стоял на крыльце — жалкий, в измаранной кровью рубахе.
— Чтоб через два часа духу не было! — сказал Семченко, проезжая мимо.
В тридцать пятом году по возвращении из Англии его как бывшего эсперантиста уговорили выступить с речью на закрытии одного из московских эсперанто-клубов. Последователи доктора Заменгофа были в то время уже не в чести, и Семченко не очень-то распространялся о своем прошлом. Но каким-то образом узнали. А раз узнали, отказываться было нельзя, пришлось выступить. Само собой, не хотелось, но и предательством он это не считал. Помотавшись по заграницам, уразумел, что никакого братства и взаимопонимания в ближайшие годы не предвидится, а если так, то идея эсперантизма становилась вредной, отвлекала от насущных проблем, как религия. Кроме того, он сам прошел через горнило любви и разочарования, и потому имел право говорить откровенно. Смущало лишь то обстоятельство, что люди, которые придут на закрытие клуба, подумают, будто он действует по указке сверху, не от души.
Но народу явилось мало, сидели с равнодушными лицами, как повинность отбывали. Только немолодая, полная, плохо одетая женщина плакала в первом ряду, прикрывая лицо платком. Она всхлипывала, наклонялась все ниже, пробовала сдержаться и не могла.
Потом женщина подняла голову, и Семченко узнал Альбину Ивановну. Он еще не кончил, а она встала и пошла. После бросился ее искать, да так и не нашел, и адреса толком никто сказать не мог, лишь знали, что учительница.
А теперь вот снова появились эсперанто-клубы — и здесь, и в Москве. Недели две назад видел афишу: «Эсперанто — язык мира и дружбы. Он в 10 — 12 раз легче любого из иностранных языков. Занятия проводят опытные преподаватели, справки по телефону…»
16
Вечером, в половине шестого, Вадим Аркадьевич сидел на скамейке перед школьным подъездом.
С другой стороны подъезда, в центре крошечного садика, чуть возвышалась над землей чаша старого, еще довоенного фонтана с гипсовыми фигурами — мальчик и две девочки. Раньше они держали земной шар, потом, лет десять назад, он куда-то исчез, и теперь у детей с нелепо воздетыми руками был такой вид, словно они ловят мух.
Без пяти минут шесть из-за угла показался Семченко — прямой, костистый, все с тем же выражением высокомерной брезгливости на старчески-узком лице. Когда он вошел в школу, Вадим Аркадьевич выждал пару минут и двинулся следом.
В вестибюле было пусто, он потянул на себя дверь школьного музея. Заперто. Деликатно постучал. Старшеклассница, открывшая дверь, объяснила, что здесь проходит заседание лекторской группы.
Неловко было рыскать их по всей школе, и он опять направился на улицу, сел на скамейку, решив, что уж на этот раз не заснет, нет.
Была какая-то смутная надежда рассказать Семченко про свою нынешнюю жизнь. Кому еще расскажешь?
Генька исчез из города четвертого июля, а на следующий день Семченко подал в губвоенкомат рапорт с просьбой о мобилизации. Через неделю его назначили командиром роты в территориальный полк, отбывавший на Западный фронт. Еще через неделю, накануне отъезда, он со всеми в редакции попрощался и провожать себя никому не велел, даже Вадиму, хотя все это время прожил у него дома. Вечером вдвоем сходили на квартиру Семченко, где тот уплатил хозяйке и отлепил от зеркала марку с портретом доктора Заменгофа. Марка чуть надорвалась, от чего изобретатель эсперанто приобрел вид насупленный и печальный, словно чувствовал, что теряет одного из своих последователей.