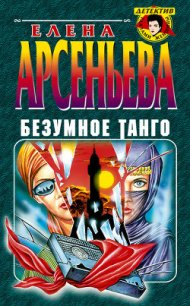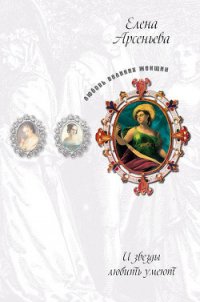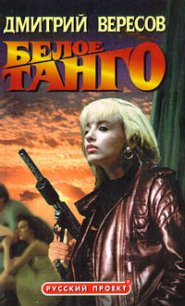Танго под палящим солнцем. Ее звали Лиза (сборник) - Арсеньева Елена (книги бесплатно TXT) 📗
Многие лица были ему знакомы по прежним временам, хотя многих он и не видел. «Годы уходят, людей с собой уносят», — философски подумал Семен Михайлович, который, в сорок два-то года хоть и не считал себя окончательным стариком, но изрядно подустал от множества привязавшихся к нему хворей.
А впрочем, он помолодел уже только от воздуха этого города, от его солнца, от синего неба, от запаха черноморской волны. Ведь он родился в Одессе и любил ее так, как только можно любить место, где прошло твое детство.
Он рос — и Одесса росла вместе с ним, ведь отец, Михаил Семенович, был тогда губернатором Новороссии. Конечно, этот пост был более почетным, чем просто звание городского головы, которое получил теперь сын бывшего губернатора, но тогдашняя должность отца была уже упразднена, это раз, а во-вторых, Семен Михайлович с детских лет помнил, как он удивлялся: батюшка его — первый человек в губернии, он назначен самим императором, однако для жителей Одессы куда как важнее губернатора какие-нибудь Филипп Лукьянович Лучич, Павел Иванович Нейдгардт, Иван Иванович Авчинников, Илья Новиков, Павел Ростовцев, бывшие в разные годы городскими головами. Губернатор огромного края находился слишком высоко и был недосягаем, а городские головы жили жизнью именно Одессы, трудились во благо ее, совершали конкретные дела на благо и процветание города. Они были отцами города, воистину, и город был для них частью не только жизни, но и семьи.
Семен Михайлович с детства запомнил слова одного знаменитого в Одессе грека, мол, здесь воздух особенный, он заставляет этот город так полюбить, что видишь свой родной дом в Одессе, и хочется трудиться во благо ее и процветание, ее обустраивать и лелеять, как будто обустраиваешь и лелеешь собственный дом.
Теперь он ощущал это чувство, этот душевный подъем с особенной силой, и такая радость поднималась в сердце, словно он помолодел на двадцать лет и все самые главные свершения его жизни были еще впереди, и они были непременным образом связаны с Одессой. Огорчало лишь одно — унылое, даже ожесточенное настроение жены. Она как замкнулась в молчании, узнав, что они покидают Петербург по приказу государя, так и пребывала в этом состоянии почти постоянно. Он живого слова, произнесенного ее особенным, звонким, словно бы поющим голосом, с тех пор от нее не слышал, только да — нет. Впрочем, хотя Семен Михайлович по-прежнему пылко любил жену, за годы супружества уже обвыкся с ее капризами, а потому старался не обращать на них внимания. Как-нибудь помирятся, так бывало всегда. Другое дело, что прошли те времена, когда он жить не мог без благосклонного взгляда Мари. Если мужчина знает, что женщина любит не столько его, сколько те блага, кои он ей дает, это неминуемо влияет на его самые сокровенные чувства. Кому-то это льстит, ну а Семена Михайловича это открытие сделало несчастным, а потом заставило замкнуться. Но постепенно он привык к своему душевному одиночеству, и сейчас старался черпать бодрость не в одобрении жены, которого ему было не дождаться, а в восторженных взглядах, устремленных на него со всех сторон, в приветственных кликах собравшихся, среди которых он продолжал искать взглядом знакомые лица.
Как много людей вокруг! Воистину, здесь собралась вся Одесса! Все что-то кричат… Иногда крики заглушают даже музыку оркестра, что же говорить о какой-то красивой мелодии, которая мимолетно достигла слуха?
Что это за мелодия?
Семен Михайлович оглянулся и увидел горбатого старика с шарманкой. Около него стояла девочка лет восьми — бедно одетая, но красивая, как нежный цветок, с прекрасными черными глазами на смугло-бледном личике. Она пела под шарманку, но уже ни звука не было слышно из-за рокота и криков толпы.
— О чем она поет? Какая хорошенькая девочка! — услышал он голос жены и, обрадованный тем, что она, наконец, заговорила с ним, властно вскинул руку.
Вмиг весь кортеж остановился, а рядом оказался адъютант.
— Подведите шарманщика, — приказал князь. — Моя жена хочет услышать песню его девочки.
Приказание было исполнено.
— Фердинанд Наркевич к вашим услугам, ваше высокоблагородие! — попытался вытянуться во фрунт шарманщик, да горб не дал. У него был явный греческий акцент, хорошо знакомый Воронцову, который знал многих одесских греков.
— Старый солдат? — спросил князь.
— Так точно! — отрапортовал Наркевич. — В деле при ауле Гергебиль абрек спину перешиб, но я выжил.
— Так ты служил с моим отцом? — удивился Семен Михайлович, ибо старший князь Воронцов был славен, среди прочего, взятием твердынь Дагестана, аулов Гергебиль и Салты.
— Имел честь! — охрипнув от волнения, рявкнул бывший вояка.
— А это твоя дочь?
— Так точно, дочь! Мать ее давно умерла.
— Как тебя зовут? — спросил князь, глядя на очаровательное дитя.
Девочка молчала.
— Ее зовут Мария, — сказал Наркевич.
— Мою жену тоже зовут Мария, — улыбнулся Семен Михайлович. — Твоя девочка может спеть для нее?
— Так точно!
Наркевич что-то сказал девочке по-гречески. В первую минуту она дичилась, но вдруг быстро забормотала. Отец кивнул… шарманка заиграла, чудный голосок полился. Девочка смотрела своими прекрасными глазами то на Семена Михайловича, то на княгиню, и им казалось, что она поет только для них, что непонятные слова имеют к ним какое-то отношение…
— Я ничего не поняла, — проговорила Мария Васильевна недовольно, когда девочка умолкла и князь зааплодировал, делая знак адъютанту, чтобы дал шарманщику денег.
— Позвольте перевести вам, ваше сиятельство, — раздался голос.
Воронцовы обернулись.
Высокий горбоносый человек лет тридцати со свободно разметавшимися черными волосами улыбался из толпы, сняв модную шляпу «борсалино» и прижимая ее к груди. Он был одет очень просто, в поношенные пиджак и серые брюки, напоминая итальянского или французского фланера, может быть, свободного художника, однако все вещи были явно дорогие, да и от всего его облика так и веяло элегантностью и богатством.
— Извольте, — пробормотал Семен Михайлович, недоумевая, почему это лицо кажется ему таким знакомым.
— Это старинная греческая песня о любви, — сказал человек. — Вот ее слова:
Мне кольцо любимый подарил
И носить велел, ни разу не снимая.
Но давно прошли те нежные дни мая…
Знаю, он меня не разлюбил,
Только я к нему уже остыла,
Для другого я его забыла —
И теперь его колечко мне тесно,
Уж не радует, а палец жмет оно.
Он умолк. И Семен Михайлович, продолжавший пристально вглядываться в его лицо, вдруг понял, откуда его знает. Григорий Маразли, грек, бывший городской голова… Но как это может быть? Ведь Маразли давно умер!
— Григорий Маразли? — нерешительно спросил князь, чувствуя себя смешным и нелепым с этим вопросом.
— Это я, ваше высокопревосходительство, — чуть склонил голову молодой человек.
И тут Семен Михайлович понял то, что должен был понять сразу. Перед ним Григорий Маразли… сын.
— Рад и счастлив встрече с вами, Григорий Григорьевич, — сказал он с улыбкой.
— И я тоже рада и счастлива, — услышал он вдруг женский голос, показавшийся незнакомым, так нежно и задушевно он звучал.
Семен Михайлович не тотчас смог сообразить, что слышит голос своей жены.
— А вот кукуруза! Горячая, сахарная кукуруза, десять гривен!
Алёна усмехнулась: продавец учился на лету. Час назад, только появившись на пляже, он кричал: «А вот пшонка!» Ни одна голова не повернулась ему вслед, и он безуспешно бродил между полуголыми загорелыми людьми до тех пор, пока какая-то пышнотелая усатая бабуля, окруженная выводком внучат, не крикнула гулким басом:
— Ви шё кричите им, чудак-человек? Тута же все сплошь фронцы с России разлеглись. Они же не понимают. Ви скажите им по-русски: горячая кукуруза, так ви потом все сразу распродадите и скажете спасибо тете Вале!
Продавец, высокий мужик с висящим из-под майки животом и в смешной бандане над обгоревшим лбом, виновато улыбнулся: