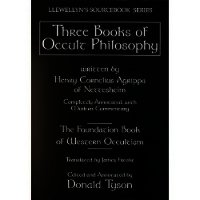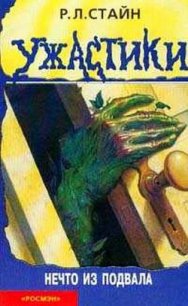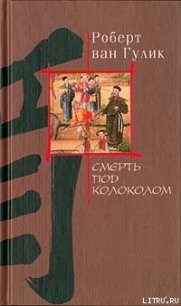Севильский слепец - Уилсон Роберт Чарльз (лучшие бесплатные книги txt) 📗
— Сомнения, конечно, у меня есть, но я все равно от них не откажусь, потому что там может всплыть что-то, что косвенно подтолкнет расследование.
— Типа?
— Типа того, о чем вы сообщили мне позавчера вечером. Как зовут этого… ну, который с «Пятью желудями»?
— Хоакин Лопес.
— Парни, которых уволила сеньора Хименес… они видели, как он беседовал с Хименесом. Но нам неизвестно о чем. Может, о чем-то важном, а может, о пустяках. Нам предстоит выяснить.
— И вы по-прежнему считаете, что это сделал псих?
— Любой дебил может превратиться в психа, если рушится весь его жизненный уклад.
— Но вся эта киносъемка, проникновение в квартиру, двенадцатичасовое ожидание…
— Мы до сих пор не убеждены, что он все проделал именно так. Я больше склоняюсь к тому, что «он» завязал отношения с этой девушкой, что «он» получил нужные ему сведения в «Мудансас Триана» и, воспользовавшись тем и другим, попал в квартиру.
— А что же за ужасы он прокручивал перед Хименесом?
— Ну, вообразить что-то подобное можно, — заметил Фалькон, сам в этом сильно сомневаясь. — Воображение творит чудеса, ведь так?
— Только не мое.
Это правда, подумал Фалькон, и ему вспомнилась Марта Хименес с ее испачканным подбородком и залепленной пластырем бровью. Рамирес был начисто лишен воображения. Ему суждено всегда оставаться простым инспектором, потому что он не в состоянии улететь в мечтах дальше, чем на одну ступеньку вверх. Его горизонты ограничены.
— А как вам кажется, инспектор, что он ему показывал?
Рамирес тормознул у светофора, крепко сжал руль и уставился на стоящую впереди машину, ожидая, когда она тронется с места. Он попытался направить свои мысли по непроторенному пути.
— То, что порождает ужас, — сказал Фалькон, — не обязательно кошмарно по видимости.
— Продолжайте, — буркнул Рамирес, зыркнув на него как на чудо заморское, но радуясь тому, что отпала необходимость фантазировать.
— Посмотрите на нас, детей цивилизации… Мы смеемся над каннибализмом, и слава богу. Мы всё перевидали… ничто нас не пугает, кроме…
— Кроме чего?
— Кроме того, что мы сознательно решили не знать.
— Разве такое можно себе представить?
— Я имею в виду вещи, которые нам известны о самих себе. Нечто очень личное, глубоко запрятанное; то, что мы никому не показываем и считаем никогда не случавшимся, потому что не в состоянии были бы жить с этим знанием.
— Я вас не понимаю, — сказал Рамирес. — Как это можно знать, не зная? Ахинея какая-то.
— Когда мой отец в шестидесятые годы переехал в Севилью, он познакомился с местным священником, который обычно проходил мимо его дома по пути в церковь в конце улицы Байлен. Мой отец не посещал церковь и не верил в Бога, но они часто сидели в одном кафе и, коротая время в спорах, очень сдружились. Однажды в три часа ночи отец работал в своей мастерской, как вдруг слышит, на улице кто-то надрывается: «Эй! Carbon! [41] Тебя подослали ко мне, признайся, ты, Франсиско Carbon?!» Это оказался священник, но уже не благостный, а злой и полупомешанный. Он стоял в порванной сутане, весь всклокоченный, и хлестал бренди прямо из бутылки. Отец впустил его в дом, и тот принялся куролесить во внутреннем дворике, проклиная себя и свою бесполезную жизнь. В то утро он раздавал причастие, и вдруг его осенило.
— Он утратил веру, — сказал Рамирес. — У них всегда так. Потом они ее вновь обретают.
— С ним все было гораздо хуже. Он заявил моему отцу, что вообще никогда не верил. Его карьера священника началась с обмана. Одна девушка не ответила ему взаимностью. Он взял и принял сан, назло ей, а вышло — назло себе. Больше сорока лет священник знал это, как бы не зная. Он был хорошим священником, но это не имело никакого значения, потому что в основании его карьеры была трещинка, крохотная ложь, на которой стояло все здание.
— А что с ним случилось потом? — спросил Рамирес.
— На следующий день он повесился, — ответил Фалькон. — А как поступить, если ты священник и всю свою жизнь учил других искать истину в слове Божьем?
— Боже милостивый, — воскликнул Рамирес, — но не надо же убивать себя! Не стоит воспринимать жизнь так серьезно.
— Отец рассказал мне эту историю вот почему, — продолжил Фалькон. — Я объявил ему, что хочу стать художником… подобно ему. И он просил меня все хорошенько обдумать, потому что искусство — это тоже своего рода поиск истины, не важно какой: личной или глобальной.
— Понимаю! — воскликнул Рамирес, хлопнув ладонями по рулю, и расхохотался.
— Ну, теперь вам ясно, — сказал Фалькон, — как это бывает, когда мы знаем что-то, не зная.
— Да пропади оно! Теперь мне ясно, почему вы заделались сыщиком, — прогрохотал Рамирес.
— И почему же?
— Чтоб искать истину. Это блеск, ё-мое! При вас мы тут все, на хрен, выйдем в художники.
Так ли это? Нет. Когда он отказался от идеи стать художником, внутренне согласившись с сомнениями отца относительно своего таланта, он заявил ему, что тогда будет искусствоведом, и отец рассмеялся ему в лицо. «Искусствоведы — это просто сыщики, работающие с картинами. Им бы все искать разгадки. Они всю жизнь что-то предполагают и додумывают, причем девять раз из десяти попадают пальцем в небо. Искусствоведение — занятие для неудачников, — говорил он, — и не просто для неудавшихся художников, а вообще для неудавшихся людей». Как только отец над ними не потешался!.. Поэтому он сделался полицейским.
Нет, опять не совсем так. Он поступил в Мадридский университет на английское отделение (из всех народов, включая испанцев, его отец только англичанами и интересовался) и увлекся американскими фильмами ужасов сороковых годов. И потом уже пошел в полицию.
Вдруг его словно выкинуло из глубокого сна, хотя он был в ясном сознании и мысли мелькали, яркие и быстрые, как косяки сардин. Он встряхнул головой, пытаясь освоиться с окружающей реальностью: сиденьями машины, пластиком, стеклом, прочими материальными предметами.
— Нет ли у Серрано чего-нибудь нового о хлороформе и хирургических инструментах? — заговорил он, помогая себе прийти в себя.
— Пока ничего.
Они остановились у кладбища. Рамирес полез на заднее сиденье за видеокамерой, а Фалькон тем временем топтался на тротуаре, созерцая толпу прощающихся, вал цветов перед часовней и яркое голубое небо, придававшее всей этой сцене чуть ли не жизнерадостность. Консуэло Хименес стояла в центре, а трое ее детей потерянно блуждали в лесу взрослых ног. Фалькон сам был такого роста на одних давних похоронах.
Служба, похоже, уже закончилась. Гроб из часовни перенесли на катафалк. Водитель тронулся с места. Прощающиеся медленно потянулись по обсаженной кипарисами аллее к центру кладбища. За живыми изгородями теснились мавзолеи и памятники, среди которых выделялась огромная бронзовая фигура Франсиско Риверы — в костюме матадора со сломанной шпагой в одной руке и с воображаемым плащом в другой он уворачивается от обреченного вечно нестись мимо него воображаемого быка.
Катафалк остановился у фигуры Спасителя, согнувшегося под тяжестью креста. Гроб внесли в гранитный мавзолей и поместили напротив единственной его обитательницы — первой жены покойного. Консуэло Хименес принимала соболезнования от тех, с кем разминулась раньше. Фалькон заглянул в мавзолей. Отделение под гробом первой жены Рауля не было пустым. Там стояла небольшая урна, слишком маленькая, чтобы заключать в себе чей-то прах. Он направил на нее лучик карманного фонарика и прочел надпись, выгравированную на серебряной пластинке: Артуро Маноло Хименес Баутиста. Вероятно, это и была поставленная Хосе Мануэлем «точка».
Фалькон подошел к вдове, выразил свои соболезнования и неспешно направился к выходу. Рамирес бродил среди надгробий с видеокамерой в руках.
— Вы, конечно же, были с ним знакомы, не так ли? — услышал Фалькон над самым ухом и одновременно почувствовал, как чья-то рука крепко схватила его за локоть.
41
Козел (ит.)