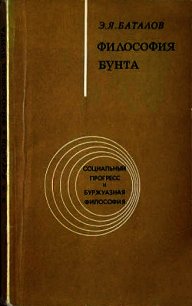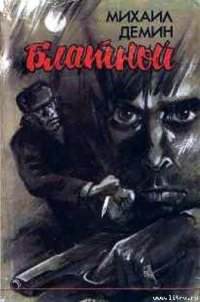У каждого своя война - Володарский Эдуард Яковлевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью .txt, .fb2) 📗
Люба взглянула на него и вдруг улыбнулась. Она полоскала в корыте белье, руки были мокрые, красные, выжимала над корытом выполосканную рубашку. Степан Егорович молча подошел, отобрал рубаху и стал выжимать, да с такой силой, что затрещала материя.
- Порвешь, леший здоровый! — засмеялась Люба и потянула рубаху к себе.
Степан Егорович и сам толком не помнил, как это все получилось. Он вдруг обнял ее своими длинными сильными ручищами, и из самой глубины души, из самого потаенного уголка ее поневоле вырвалось тягостное и надрывное:
- Э-эх, Люба-а... люблю я тебя…
И до того это было неожиданно и нелепо, посреди кухни, в горячем чаду кипевшего на плите белья, что Люба засмеялась и даже вырываться не стала, только повернулась к нему сияющим смехом лицом:
- Кости поломаешь... пусти, лапы как железные…
Но когда она заглянула в его потемневшие, исстрадавшиеся глаза, когда увидела, как вздулись желваки под скулами, то вдруг поняла, что это не шутки, что это до горя, до боли всерьез.
- Пусти, Степан Егорович... — шепотом попросила она.
И хоть страшно стало ей в первые секунды, но тут же метнулась в душе шальная мысль, что, значит, жизнь ее не совсем прошла в трудах и заботах, что, значит, не совсем она еще старая, раз ее любит такой мужик.
Степан Егорович целовал ее в щеки, в шею.
- Я пить брошу, Любушка... — с бульканьем в горле выговорил он. — Я без тебя как пес подзаборный…
- О-ох... — со стоном выдохнула Люба, и в глазах ее сверкнули слезы. — Зачем ты, Степан Егорович, господи-и, ну заче-е-м? Ведь не вернешь ничего... не поможешь... Что ж ты раньше-то молчал, гвардии сержант? — Она отстранилась от него, посмотрела прямо в глаза.
- Боялся гвардии сержант... трусил гвардии сержант... — бормотал потерянно Степан Егорович. — Тогда на кладбище... я хотел... в душе все жгло, а вот сказать не смог... Да и раньше... Думал, ну кому одноногий калека нужен?
Дочка музыканта Игоря Васильевича Лена готовила в комнате уроки. Ей захотелось попить, она взяла из буфета чашку и пошла на кухню — и остановилась на пороге, точно встретила глухое непреодолимое препятствие. Ей было одиннадцать, и понимала она много.
На кухне, у корыта с грудой мокрого дымящегося белья, обнимались и целовались Люба и Степан Егорович. И тетя Люба почему-то всхлипывала, и горестно охала, и гладила Степана Егорыча по голове, плечам.
Разве когда целуются, плачут, недоумевала Лена.
- Степа, Степушка... — со стоном выговаривала Люба. — Что же нам делать? Ведь это грех, Степа... — Она взяла в ладони его лицо, заглянула ему в самую душу, прошептала: — Я ведь не смогу так жить, Степа…
Не смогу-у…
- Уедем, а? Люба! — горячо заговорил Степан Егорович. — У меня свояченица на Орловщине живет, в Шаблыкинском районе, будем там жить! Дом свой поставим! Хозяйство будет! Люба! А то хочешь, еще куда махнем? Куда хочешь? Россия большая, Люба! Что мы себе места, что ль, не сыщем?
- Ох, Степан, ты хуже дитя малого, — с печальной улыбкой Люба покачала головой. — А Робка? А Борька вот-вот вернется? А бабка? Куда их? Они ж пропадут без меня... Да и Федор Иванович…
- Ты и так лучшие годы на них положила, Люба! — не сдавался Степан Егорович. — Робка и Борька взрослые, глядишь, женятся и уйдут... Ты-то с кем останешься? С бабкой да... Федором Ивановичем? Заживо себя похоронишь, Люба!
Люба вдруг почувствовала чье-то присутствие в коридоре, настороженно вскинула голову, посмотрела на распахнутую дверь. Но хитрая девочка Лена успела спрятаться в коридор, крадучись, на цыпочках пошла по коридору и юркнула в свою комнату. Люба уловила едва слышные шаги, стремительно рванулась к двери в коридор, выглянула — в коридоре никого не было. «Почудилось... — испуганно подумала Люба и горько усмехнулась: — Теперь вот так любого шороха бояться? Каждый поцелуй воровать, каждое свидание... Ох, господи, твоя воля, зачем все мучения эти?»
Она вошла обратно на кухню, стала возиться с бельем, стараясь не смотреть на Степана Егоровича. А тот столбом стоял посреди кухни, опустив голову, и в голове этой шумело, беспорядочно метались ошалевшие мысли, обрывки каких-то ненужных фраз, вопросов — оглушен человек и никак не может сосредоточиться, не может найти нужные, те единственные слова, которые могли бы спасти Степана Егоровича. Впрочем, вряд ли можно было найти такие слова. Мир рушился на глазах гвардии сержанта, и он погибал под его обломками. Что смог бы сейчас посоветовать ему погибший фронтовой друг Василий Плотников? Пожалуй, только одно — застрелиться…
- Люба... — прохрипел Степан Егорович, хотел еще что-то сказать, но Люба мягко, но непреклонно перебила:
- Не надо, Степан. Не смогу я так... не сумею… по-воровски, украдкой. И уехать с тобой никуда не могу — дети у меня, мать-старуха... А Федор Иванович? Что же мне, предательницей дальше жить?
- Глупости говоришь, Люба! Мы ведь любим друг друга!
- Есть любовь, Степан, а есть... семья, — сухо ответила Люба.
- Ну ладно, будет! — Степан Егорович ощутил наконец ясность и спокойствие в голове, и пришли к нему те единственные слова, которые он должен был сказать Любе: — Понял я все, Любовь Петровна... Дети, мать-старуха — это все хорошо. Федор Иванович — распрекрасно. Только подумай, может, ты до этого предательницей жила?!
Люба молча смотрела на него, прикусив губу, качала головой, и слезы вновь закипели у нее на глазах.
- Нет, нет... — прошептала она и с ужасом почувствовала, что Степан Егорович говорил правду.
- Да! Только подумай, что лучше: уйти, полюбив другого, или жить с человеком без любви, по принуждению... Это, скажу я тебе, еще большая гадость... — и Степан Егорович ушел к себе, стуча по полу деревянной култышкой. Открыв дверь в свою комнату, он крикнул отчаянно: — Спохватишься, Любка, да поздно будет! Гляди, взбесишься!
Громко и тяжело хлопнула дверь. Люба окаменело стояла перед корытом, пальцы машинально перебирали мокрое белье, невидящие глаза смотрели в пустоту. Сейчас и она почувствовала, что мир рушится на ее глазах и она может погибнуть под его обломками…
...На улице стояла полная весна. Сияло жаркое солнце, на деревьях густо зеленели листья, звенели мальчишеские голоса во дворах. Играли в лапту, салочки, носились как угорелые. Ох, как тяжело учиться во вторую смену! День в самом разгаре, столько жутко интересного происходит на улице, а ты вынужден томиться в душном классе, слушать унылые голоса учителей, решать занудные задачки, заучивать бессмысленные формулы по химии или физике. Почему, куда ни глянь, везде жизнь устроена несправедливо?
- Совсем от весны одурели? — усмехался историк Вениамин Павлович, глядя на взбудораженный класс.
- Погода шепчет: бери расчет, езжай на море, — раздалась нахальная реплика с галерки.
- Успеете, наездитесь. А сейчас прошу внимания.
Прошу успокоиться! Или Колесов выкатится из класса колесом! Белов сейчас покраснеет, а Краснов побелеет! Несчастные балбесы! Вы же тупые, безграмотные людишки! С трудом помните, когда сами-то на белый свет родились! А туда же, историю изучают! Зубрилы! — сердито выговаривал Вениамин Павлович, и широкий шрам на лбу медленно краснел и вздувался.
- Понесло его... — шепнул Поляков. — Сейчас кому-нибудь пару влепит.
- Ну, кто хочет пятерку заработать?
- Да вы отродясь никому пятерок не ставили, Вениамин Павлович! — раздалось опять с галерки.
- Неправда! Роберту Крохину ставил! Матвиенко ставил! Чернышеву ставил... А сейчас сразу можете заработать пятерку — в четверти!
- Фьюи-ить! — присвистнул кто-то.
- Если до звонка... — Вениамин Павлович посмотрел на часы, — кто-нибудь напишет на доске сто дат — получит пятерку в четверти. Сто исторических дат.
- А если не напишет? — спросили опять-таки с галерки.
- Двоечка в четверти, — усмехнулся Вениамин Павлович. — Тут уж, милейшие мои лоботрясы, или пан — или пропал.
- Любые даты писать можно? — спросил Робка.
- Любые... Что, хочешь рискнуть? — Историк испытующе смотрел на Робку. — Давай, Крохин, риск — дело благородное.