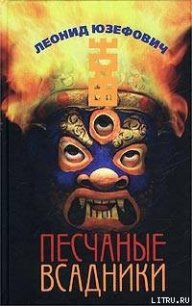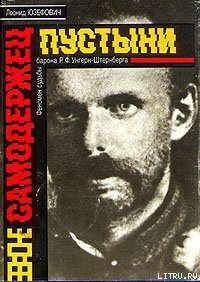Казароза - Юзефович Леонид Абрамович (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
Двигались гуськом. Впереди шел Вагин, еще по дороге сюда успевший во всех подробностях пересказать свой ночной разговор с Осиповым. Теперь понятно было, кого Казароза увидела в задних рядах, но вспомнить не могла.
— Мы там с утра все обшарили, — негромко сказал шедший сзади Нейман. — Револьвер не нашли.
— Может, кто-нибудь поживился раньше вас? — предположил Свечников.
— Вряд ли. Мы начали еще затемно.
— Получается, что стрелял не Порох?
— Очень возможно. Во всяком случае, он до сих пор не признался. Стоит на том, что во дворе был кто-то еще.
— И кто это мог быть?
— Не знаю. Варанкин отпадает: он до утра просидел у нас в подвале. Впрочем, есть надежда, что Порох еще признается. Если нет, Караваев займется этим делом.
— А вы что же?
— Меня вызывают в Москву. Через час поезд.
Вышли на центральную аллею. Почернелые деревянные кресты сменились коваными, а то и литыми, чугунными. Появились оградки, решетки, скамеечки, скорбящие гипсовыедевы с отбитыми носами, постаменты с мраморными урнами, полными прошлогодних листьев, семейные склепы, похожие на павильоны минеральных вод, но даже здесь выделялось воздвигнутое возле самой дороги надгробие первого в городе эсперантиста Платонова. Сикорский считал его своим учителем.
Платонов был купец 2-й гильдии, владелец обувного магазина и десятка сапожных мастерских. Эсперанто он увлекся уже в преклонном возрасте, зато с такой страстью, что наследники пытались объявить его сумасшедшим, когда он чуть ли не все свое состояние завещал на пропаганду идей доктора Заменгофа. Часть этих денег лежала теперь в банке Фридмана и Эртла в Лондоне. Своим амикаро Платонов продавал обувь с половинной скидкой. Объявления об этом публиковались в журнале «Международный язык», заказы стекались к нему отовсюду, вплоть до Москвы и Петербурга. Все русские эсперантисты носили его сапоги. Бывало, что по этим сапогам они узнавали друг друга в уличной толпе.
— Сегодня утром пришла телеграмма, — объяснил Нейман. — Алферьев, оказывается, скрывался в Москве.
— Его арестовали?
— Он застрелился при аресте.
За воротами просигналил автомобиль.
— Идемте, подброшу вас до театра.
— Спасибо, — отказался Свечников. — У меня свой транспорт.
Где-то в листве печально попискивала синица. По яркой зелени лип тень от колокольни тянулась к логу. Там, в бедной земле, не похожей на эту, черную и жирную, лежала мертвая таитянка, волшебная птица, Алиса, которая боялась мышей. Человек, подаривший ей кошку, пережил ее на день.
О нем она пела:
Отныне он знал, где находится этот маленький домик, над какой рекой лился этот розовый свет.
Нейман ушел, Свечников остался стоять перед платоновским надгробием.
Из глыбы черного гранита вырастал гранитный же крест со щербинами от пуль, оставшихся с тех пор, как полтора года назад бойцы трибунальской роты держали оборону на краю лога, пытаясь остановить наступающих от пушечного завода сибирских стрелков. Под солнцем тускло золотилась полустертая эпитафия на русском и на эсперанто: Блаженны славившие Господа единым языком!.
Дата смерти — 1912. Купленные со скидкой сапоги давно изношены, разбиты, годятся лишь самовары раздувать.
И все равно — блаженны!
Поминки устроили в одной из театральных уборных. Осипов скромно выставил на стол бутыль с кумышкой, Милашевская строгала конскую колбасу и резала хлеб, составляя бутерброды по тому принципу, чтобы колбаса легла на ломти потоньше. Более толстые хороши были сами по себе. Тарелки и рюмки взяли из реквизита. На роскошном фаянсовом блюде жалко серела кутья с равномерно вкрапленными в нее бесценными изюминами. Лука и редиски было вдоволь.
Из эсперантистов присутствовал только Сикорский, но всего за стол набилось человек пятнадцать — питерские гастролеры, здешние оркестранты, директор театра с лицом крестьянина и глазами кокаиниста. Эту должность он получил как бывший красный партизан. К нему откровенно жалась расфуфыренная дама, которая оказалась билетершей. На кладбище Свечников ее не видел, зато теперь она одна явилась в шумном шелковом трауре явно из костюмерной и на этом основании пыталась руководить застольем, пока инициативу не перехватил столичный баритон, похожий на Керенского. В короткой речи он помянул покойную как образец бескорыстного служения искусству и через весь стол потянулся своей рюмкой к рюмке директора. Билетерше пришлось напомнить ему, что на поминках не чокаются.
Баритон глотнул осиповской кумышки и передернулся от отвращения.
— Умереть в этой дыре… Брр-р!
Сикорский вступился за честь родного города единственным доступным ему способом — начал перечислять имена тех, кто был сослан сюда самодержавием. Имя Якова Свердлова сияло в этой плеяде звездой первой величины. К нему примыкали Короленко с Герценом, пара декабристов и один студент, налепивший на памятник Минину и Пожарскому в Москве прокламацию против крепостного права. Затем, с разрывом в полвека, шел вологодский канцелярист Творогов, самозванец. При Екатерине Великой он выдавал себя за принца Голкондского, обманом лишенного престола и вынужденного бежать в Россию. Творогов сочинял стихи на голкондском языке, а на русском — историю своей далекой, неблагодарной, но все равно бесконечно милой родины. Потом его разоблачили, он был отправлен в ссылку на Урал и здесь в полгода сгорел от чахотки, словно в самом деле родиной ему была та страна, где не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном. Перед смертью он молился Шиве и Браме, но причастие принял по православному обряду. Похоронили его на Его-шихинском кладбище, как и того студента. Подразумевалось, что Казарозе не зазорно оказаться в таком обществе.
— Собак-то на кладбище! Видали? — спросил вдруг директор театра.
Ни к кому конкретно он не обращался, но сразу несколько голосов отозвалось:
— Видали, Авенир Иванович!
— Да-а, развелось их!
— Потому что хоронить стали мелко. Весной вонь стояла, не приведи господи!
— Есть же постановление губисполкома, — сказал директор, — хоронить на глубине не менее трех аршин. А не выполняется! Отсюда и собаки.
— Могилы разрывают? — догадался кто-то.
— Они нынче про нас все знают. Мы озверели, так и зверью нас понять — тьфу! Видят насквозь… Вот в Чердыни был случай. Беляков оттуда выбили, входим в город, пристают к нам два кобеля. Тощие, драные, навоз жрут. И вьются, и вьются! Уж они и так, и так! Отбегут, потявкают, и опять ко мне. Ну, думаю, наводят, не иначе. Пошел за ними. И ведь что? Показали, где пепеляевские офицеры прячутся. А потом давай попрошайничать: плати, мол, командир, за службу.
— И что вы с ними сделали? — тихо спросила аккомпаниаторша.
— С офицерами-то? Да ничего, сдали в штаб. А кобелей этих я сам пристрелил, своей рукой. Что-то мерзко мне на них стало.
— Вечная память борцам за дело революции, — сказал Осипов, доставая из портфеля еще одну бутыль.
Из украденных им у жены денег кое-что, похоже, осело в его кармане и потрачено было не зря.
— Богатырь! — ответил он на просьбу Свечникова рассказать что-нибудь об Алферьеве. — Двухпудовую гирю через избу перекидывал.
— Двухпудовую? — не поверил Свечников.
— Ну, пудовую точно.
— И через крышу?
— Мог бы вполне. Таким мужчинам нравятся такие женщины.
— Какие?
— Вот такусенькие, — двумя пальцами показал Осипов.
На кладбище он явился уже пьяный, а сейчас из последних сил удерживал на лице брезгливую гримасу отличника, наперед знающего все, что будет объяснять учитель. Эта гримаса всегда появлялась у него перед полной отключкой.
Говорить с ним было бесполезно, и Свечников подсел к Милашевской. Она глазами указала на Осипова: