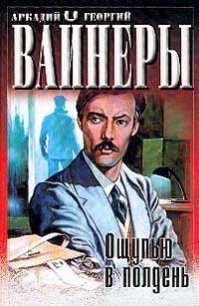Умножающий печаль - Вайнер Аркадий Александрович (бесплатная регистрация книга .txt) 📗
— Я подумаю, — медленно сказал Сашка.
— Санечка, и думать нечего! Эта, — она постучала себя в грудь, — нам с тобой уже поднадоела, она, гадюка, крепко выпивает и вообще пообносилась… Ну ее к черту! Не злись на меня, мой дорогой легендарный Мидас, я хочу, чтобы тебе было лучше…
— Я не злюсь, я грущу, — сказал Серебровский своим зыбким недостоверным тоном, и не понять было — не то правда, не то ложь. — В тебе, Марина, живут два человека… Прекрасная, умная, яркая женщина — лучшая на земле. Больше такие здесь не рождаются… Для меня, во всяком случае… Тогда я мечтаю умереть с тобой в один день. Завтра или через сто лет… И вдруг выскакивает из какой-то страшной мглы чудовище, миссис Хайд — агрессивная, пошлая дура. Злая клоунесса… Она заставляет меня подумать о печально-сладкой участи вдовца…
— Грозишься? — усмехнулась Марина, и пухлые ее губы, нежные, красиво очерченные, не были открыты для поцелуя.
Я поднялся:
— Але, ребята, я бы предпочел, чтобы вы свои разборки как-нибудь без меня…
Марина схватила меня за руку, силком усадила на место:
— Нет, нет, нет! Ты с ума сошел! Какие тут разборки, милые тешатся! Все проблемы — от недопонимания. Я почитаю его как царя Мидаса, а Санечка сердится! Серега, помнишь предание о Мидасе?
— Это не предание, — покачал я головой. — Это миф, выдумка… О царе, которой превращал в золото все, к чему прикасался.
— Вот-вот! Деревья, людей, еду! Все становилось золотом, пока он не умер от голода…
— Ошибаешься! — со вздохом заметил Серебровский. — Мидас не умер от голода… Зря надеешься!
— А чем там закончилось? — живо заинтересовалась Марина.
— А вот этого я тебе не скажу. Пусть это будет пока нашим секретом. С Мидасом, я имею в виду…
Марина горестно вздохнула:
— Хорошая у вас подобралась компашка, ничего не скажешь — Мидас, ты, Билл Хейнс… Сколько вы сегодня срубили миллионов?
— Все твои, Мариночка! Все в твоей сумочке… Представь себе — пройдет совсем немного времени, и ты станешь самой богатой на земле женщиной после английской королевы. Только чуть моложе и привлекательней! — Голос Сашки был сейчас достоверный — издевательский.
Марина положила ладонь ему на руку и неожиданно мягко, сердечно сказала:
— Санечка, ты очень умный человек! Наверное, самый умный из всех, кого я знаю… Ты как Лев Толстой — когда ему исполнилось пятнадцать лет, мальчик записал в дневнике: пора привыкать к мысли, что я умнее всех…
— Ты сказала, — хмыкнул Сашка.
— Постарайся понять… Давно, давным-давно, в эру позднеперестроечной голодухи, меня попросили в Смоленском пединституте прочитать лекцию о поэтике Цветаевой. Господи, как они слушали! Потом библиотекарь, стесняясь, объяснил, что денег у них, конечно, нет, и вручил мне гонорар — бутылку жуткой местной водки и две порции вареного кролика с лапшой. Ночью, возвращаясь в поезде, я прихлебывала их сивуху, жевала холодного кролика и плакала от счастья… Ты меня понимаешь, Санечка?
— Нет, не понимаю! — отрезал Сашка. — И понимать не желаю! Ты блажишь не от душевного томления… И твое демонстративное презрение к деньгам — не от величия духа, а от сытого тупоумия…
— Спасибо, Санечка, на добром слове! Действительно, как это можно не любить деньги?
— Не делай из меня дурака… Конечно, можно деньги не любить. Так же, как кастрат не должен любить женщин, язвенник — вкусную еду и выпивку, глухарь — музыку, а слепец — богатство цвета. Но деньги — экстракт всей жизни человечества, ее символ, зримое воплощение ее энергии… Деньги не требуют от меня любви, они хотят заинтересованной дружбы. И полного понимания…
— Не знаю, — развела Марина руками. — Меня тошнит от твоего вдохновения…
— Потому что ты так и осталась бедным человеком, — с досадой ответил Сашка. — Несмотря ни на что… Ты думаешь, что деньги — это потертые медяки и сальные бумажки?
— А как ты на них смотришь, мой ненаглядный Мидас Игнатьевич?
— Уж если Мидас — то Гордиевич! Мидас Гордиевич, запомни, — серьезно сказал Серебровский. — Я смотрю на деньги как на великое чудо, не перестающее меня удивлять. Философский камень, поворачивающийся каждый раз новой гранью. Я не пользователь денег, я их создатель, композитор, творец… Каждый день я сочиняю симфонию богатства, сложенную из криков счастья, скрежета зубов, стонов наслаждения и визга людских пороков. Деньги в моих руках — инструмент власти, человеческие вожжи, оглобли на державу, хомут на мир, который бежит в пропасть…
— Оказывается, ты и мир спасаешь, — уронила Марина.
— Представь себе! Жалко, что ты этого не замечаешь, — тяжело вздохнул Серебровский. — Деньги в руках таких, как я, — последняя надежда, что наш маленький засратый шарик не провалится в тартарары…
— Бог! Одно слово — повелитель судеб! За ужином, между мясом и десертом, творишь будущее, — ядовито улыбнулась Марина.
— Творю! — сипло, придушенно-яростно завопил Сашка. — Еще как творю! На мои деньги люди едят, плодятся, лечатся, учатся — я кручу мельничное колесо истории. Мои деньги питают энергию работяг и художников, они — источник их работы, стимул вдохновения, праздничный погонщик трудолюбия…
Я смотрел на Сашку — и гордился! Я любовался им — честное слово, он был прекрасен! В нем клокотала такая сила, такая страсть, такая уверенность, что я вдруг понял — я его совсем плохо знаю. Видимо, и 25 лет — не срок.
А Марина устало, отчужденно захлопала в ладоши:
— Аппассионата! Героическая ода деньгам! Бетховенский фестиваль… Большой театр… Солист — маэстро Александр Игнатьевич Мидас!… Покупаем любовь и признание народа по разумным ценам…
Сашка угас. Он долго крутил в руках кольцо от салфетки, слепо глядя невидящим перед собой взглядом, потом бросил кольцо со звоном на стол и сказал мне:
— Прости, старик… Я всего этого не имел в виду…
— Перестань! — отмахнулся я. — Меня здесь не сидело…
— Да не имеет все это значения! — Александр Игнатьевич поправил на переносице свои тоненькие очки, и был он в этот момент похож не на Магната Олигарховича и не на зажиточного царя Мидаса Гордиевича, а сильно смахивал на разночинца Чернышевского Николая Гавриловича, коленопреклоненного на эшафоте перед гражданской казнью и раздумывающего над затруднительным вопросом «Что делать?».
— Смешно, конечно, — задумчиво тер он ладонью лоб. — Ведь давно известно, что в театре самые взыскательные зрители — те, кто попал туда по контрамарке…
Марина допила бокал до дна, поставила его со стуком на столешницу и любезно сообщила:
— Как только Шекспир это сообразил — так сразу сжег свой театр «Глобус»…
— Я подумаю об этом, — пообещал ей муж, и будь я на месте Марины — честное слово, я бы испугался. А он повернулся ко мне:
— Ничего не попишешь, Серега… По-моему, она меня ненавидит…
Я обескураженно молчал. А что тут скажешь? Она для Сашки — не любовь, не страсть. Это наваждение, морок, мара, блазн, сладкое помрачение ума. Может быть, это искупление? За что? Почему? Никому этого не понять, никому нет хода в бездонную каменоломню его души.
Сашка положил мне руку на плечо:
— Спасибо, Верный Конь, что ты приехал!
— Толку от меня! Если бы я мог помочь…
— Мне нельзя помочь… Мой разум заманут в ловушку бесконечности…