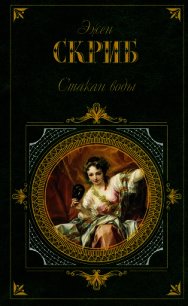Завещание Колумба - Вайнер Аркадий Александрович (книги читать бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
Затаился я за дымоходом, опер кисть правой руки с пистолетом на сгиб левой и замер, дожидаясь следующей перебежки Саидова. потому, что знал: он побежит первым, у него нет времени ждать, пока ко мне подойдут на подмогу. И путь у него был только один — к слуховому окну, последнему у глухой стены брандмауэра.
И, прислушиваясь к стесненному дыханию Саидова, притаившегося от меня в пяти метрах, я с режущей остротой понял, что такое уже было в моей жизни, что происходящее сейчас на пятом этаже окраинного старого дома уже случилось со мной когда-то, что происходит ужасная реконструкция бушевавших в детстве игр, где мы носились по чердакам с деревянными автоматами и убивали друг друга пронзительными криками «пах-пах», «та— тат-та», а сейчас жизнь и моя служба, мой долг и ответственность перед людьми, ничего не ведающими об этом, вдруг вернули меня в детское воспоминание, но впереди за каменным простенком не мой сосед, мальчишка — одноклассник, а убийца, зверь, истязатель, и он не станет мне кричать «тах-тах», и я навсегда убежал из прошлого, и не человек я сейчас, а только приклад к своему черному тяжелому пистолету системы «Макаров».
И все, вложенное в меня долгими годами Кольянычем, все наши нескончаемые беседы бесследно истаяли — я забыл всё, и, кроме страстного стремления попасть в зверюгу в момент его броска, я ничего больше не чувствовал. Откуда-то с закраин памяти пришло жуткое воспоминание — грязная маленькая комнатушка, забрызганная почти до потолка кровью, съежившийся маленький труп в углу, отпечатки ладоней Саидова на стене — черно— красные жирные кляксы на блеклой клеевой покраске Фотоснимки сброшенной с поезда женщины. Трясущиеся, словно контуженные недавним страхом свидетели нападения на сберкассу в Дегунине.
Саидов зашевелился, зашебуршал в своем укрытии, и я понял, что йогская способность останавливать дыхание — это не выдумка. Я не дышал, я ждал, потому, что сообразил: он подманивает меня, не станет он шуметь перед броском, но в косом луче солнечного света, пронизанном дымящейся пылью, мелькнула тень, быстро удаляющаяся в сторону окна. Слишком быстро.
Я чуть подался вперед, но вовремя остановился — тень с хрустом рухнула на шлак. В полумраке я успел разглядеть, что это большая бельевая корзина, которую кинул перед собой Саидов в расчете на мой немедленный рывок, и тогда бы он снял меня влет. И почти сразу же с пронзительным визгом, воем, звериным ревом он выскочил из-за поперечной балки и рванулся на прорыв — на меня, через меня, по мне — к слуховому окну, к своей крысиной свободе.
Чуть взмокший от напряжения указательный палец, живший от меня совершенно отдельно, будто он принадлежал кому-то другому — настолько я не чувствовал его, — вдруг сам по себе стал плавно сгибаться, сминая упружистое сопротивление спускового крючка, и выстрела я не услышал и в первый миг не понял, почему подпрыгнул вверх Саидов, будто его ударили с размаху доской в грудь. Только в кино я видел до этого, как падают убитые. Там это все происходило долго, картинно, умирающий еще делал несколько шагов и успевал сказать, что-то значительное, а Саидов умер мгновенно. Из своего странного прыжка он резко завалился головой назад и тяжело рухнул на шлак. Его пистолет отлетел далеко в сторону, но я не сразу решился подойти к нему — не верил, что этот неуловимый бандюга мертв. Оседали клубы пыли, где-то внизу засигналила милицейская сирена, а здесь все было тихо. Я переложил пистолет в карман, поднес руку к лицу и с испугом подумал, что вот этой самой рукой я только, что убил человека. И охватила меня ужасающая тоска — страшное чувство, будто кто— то взял в ладонь твое сердце и несильно, но властно сжал его. Вся кровь вытекла из него, а новая не втекла, и полнейшая пустота поглотила, объяла беспросветная чернота, словно я провалился в бочку с варом.
Мне было тогда двадцать пять лет.
И, угадывая эту тоску и отчаяние, страх неверно угаданного призвания, Кольяныч сказал мне:
— Сынок, ты выбрал себе судьбой войну… Эта война будет идти и через века, когда о других войнах люди на земле забудут. Она всегда будет справедливой, потому, что должна защитить мирного человека от зла и хитроумия плохих людей… а злые люди, к сожалению, будут жить и через века… Поэтому тебе выдали оружие…
Да, я сам выбрал себе судьбу, но перед этим много лет подряд Кольяныч в самых разных ситуациях, по самым разным поводам и в самых разных сочетаниях примеров пояснял: мир жив и будет жить до тех пор, пока есть люди со странным призванием — один за всех, а теперь он умер.
Нелепо называть предместье Рузаева пригородом. В городском титуле самого-то Рузаева было предостаточно самозванства, и обязан он был городским званием консервному заводу, паре текстильных фабрик и кирпичной четырехэтажной деревне в центре — с обязательным комплексом из Дома быта, Дома торговли и Дома связи.
И все — таки пригород был — остаток старого, не реконструированного Рузаева — бывшее мещанское предместье, составленное из аккуратных домишек с резными наличниками, лавочкой у ворот и густыми зарослями бузины и рябины вдоль заборов. Перед домами сидели старухи, придвинув к самой обочине жестяные ведра с букетами пышной сирени и стеклянные банки с нарциссами и первыми тюльпанами. У старух был такой отрешенный вид и они всегда настолько высокомерно отказывались сбавить цену на свои цветы, что у меня давно возникла мысль, будто они и не хотят их продавать. Просто так сидеть днем сложа руки неприлично вроде бы, пускай думают эти странные люди в проносящихся по дороге машинах, что они присматривают за цветами, а чего за ними присматривать. Кто их тут возьмет, кому они нужны? Ведь город и так тонет в клубах душно— сиреневой, густо-фиолетовой, серебристо-белой сирени.
Перед перекрестком у ярко-зеленого забора сидела бабка — горбунья с резко вырубленным лицом тотема с острова Пасхи. Настоящая Аку-Аку. Я плавно притормозил у ее ведер, чтобы не засыпать придорожной пылью, вылез из машины и нисколько не удивился, что бабка в мою сторону и глазом не повела.
— Сколько стоят ваши цветы?
— Два рубля, — величественно сообщила старуха.
— Мне много надо… — неуверенно начал я. Бабка не спеша оборотила ко мне свой каменный лик — ее, видно, удивило, что я покупаю много цветов, направляясь в Рузаево, а не в Москву.
— А на, что тебе много? — спросила она и пронзительно вперилась в меня. — На праздник едешь? На свадьбу?
— На похороны, мать…
Старуха тяжело вздохнула, и вздох будто бы размягчил ее жесткое лицо.
— Наш, рузаевский, опочил?
— Ваш… Он был много лет директором школы… Коростылев его фамилия… Может, знали?
— Издаля… Мы тут все друг друга знаем… Мои у него не учились… Раньше кончили, а внучки уже в городе в школу пошли… Каждый год летом сюда приезжали… а ноне не приедут… На море, говорят, поедут. Чудно! На море! Чем тут плохо — то?.. Я вон года свои выжила, а море так и не видала…
Говоря все это, она бережно сливала из ведер воду, осторожно достала пышные охапки цветов, протянула мне:
— На, держи… а я пойду. — Потом с интересом взглянула мне в лицо: — а ты-то кем доводишься покойному? Сын?..
— Как вам сказать… Ну, вроде бы… Ученик я его…
— Да — а? — удивилась бабка и решительно тряхнула головой: — Хорошо, значит, дед жизнь прожил, коли хоть один ученик проводить явился…
— Он хорошо прожил жизнь, — заверил я — Сколько я вам должен?
— Нисколько, — хмыкнула бабка. — Мне уж самой скоро не деньги, а цветы надобны будут…
Я сел за руль, и Галя спросила:
— О чем ты с ней так долго говорил?
— О цветах… О Кольяныче… О жизни…
Галя поджала нижнюю пухлую губу и грустно пожаловалась:
— Ты готов говорить о цветах и о жизни с незнакомой дикой старухой… Со мной не хватает терпения и времени…
Дорога помчала на взгорок — в конце улицы уже был виден дом Кольяныча.
— Галя, мне кажется, что ты не хочешь говорить со мной о жизни, а хочешь заставить меня воспринимать жизнь по-своему. Вообще, по-моему, происходит ошибка — ты любишь вовсе не меня, а совсем другого человека и страдаешь оттого, что я никак не становлюсь на него похожим.