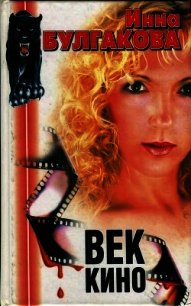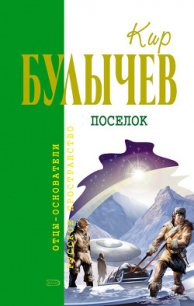Последняя свобода - Булгакова Инна (читать книги онлайн полностью без сокращений .TXT) 📗
Да что я зациклился на брачном ложе? В лесу, на берегу, в парке пансионата — сколько угодно укромных уголков — и дождь смыл следы. И нету трупа — не удалось привести в движение доблестные «органы». Но мне все мерещилась душная с бордовыми бликами солнца сквозь портьеры комната, где прошелестело что-то черное и где с тех пор я не спал ни разу.
Призраки, прочь!
Глава 6
Я вышел на площадку и наудачу позвонил в соседнюю квартиру. Удача.
— Марья Петровна, это я. Востоков.
Бывшую нашу дворничиху я почти не знал, но два года назад мы с ней слегка сошлись на почве похорон. И она мне как-то позволила, под предлогом купли-продажи, проверить праховский «Ремингтон»: предлагают такой же, стоит ли…
Продолжает лелеять правнучку, значит, Прахов сообразил в свое время обратить опереточные гонорары в нечто более существенное, инфляции не подлежащее.
Баба Маша приоткрыла дверь ровно на дверную цепочку, осмотрела меня и впустила. Прогремело пять замков! Мыслимо ли, чтобы Прахов оставил в день смерти свои покои открытыми? Немыслимо — но факт.
— А Мария у нас в Кукуевке, — сообщил я жизнерадостно. — Сын приехал.
— А я знаю, — старуха скорбно смотрела на меня слезящимися глазами. — Проходите, Леонтий Николаевич.
Прошли в гостиную в уютном, грубовато-добротном стиле пятидесятых. Уселись в глубокие кресла.
— Может, чайку?
— Я ненадолго. Как вы себя чувствуете?
— Какие мои теперь чувства. Не берет Бог.
— Да, старик вас тогда крепко подкосил.
— Подкосил, батюшка.
— А ведь какой здоровый был.
— Здоровый, ох здоровый.
— На минутку б вы пораньше — может, и спасли бы.
— Куда! Уж весь окоченелый был. Я как свет включила…
— А тут болтали, будто вас днем к нему вызвали.
— Я знаю, — зловеще сказала старушка, — кто на меня наговаривает, на мое место метит. Только Машенька меня любит. Сколько зла на свете, Леонтий Николаевич.
— Это правда. Так не вызывали?
— Не верьте. У нас с ним в тот день уговор был: я уборку у себя делала, а телефон под рукой.
Господи, что ж тут произошло? Я смотрел в дверной проем кабинета — в холодный зев давно не действующего камина, возле которого лежал Прахов (как описывала сейчас баба Маша). Скрюченный в последней судороге, по-старомодному элегантный: белая накрахмаленная рубашка, темная «тройка» с красной искрой, галстук-бабочка и лаковые туфли. Таким он бывал, должно быть, на своих премьерах.
Мне вдруг вспомнилась кончина Фета (где-то читал): мука жизни и страх смерти. Он взял нож, чтобы вскрыть вены, как древнеримский аристократ, — и упал от разрыва сердца. Бог сберег поэта от самоубийства.
— А ножа возле него не было? — спросил я машинально, однако баба Маша не удивилась.
— Ножа не было, — сказала она твердо. — Что ж покойник — разбойник, что ль, был?
Разбойник, да еще какой (подумалось), но не аристократ и не поэт.
— А про Машеньку я не знала, — продолжала старуха. — Она ж к вам в Кукуевку сроду не ездила. Позвонила в «скорую» и начальнику. — (Вероятно, какой-то секретарь в Союзе писателей.) — Они хорошо распорядились. А сердце ноет: не простится с прадедушкой, круглая сирота, никого на свете нету… Обзвонила всех по его книжечке — вот на вас и напала. А теперь думаю: может, и лучше, что она не видала его.
— Почему же?
— Плохо умер.
— Как это?
— Лик очень страшный. Пусть ей не снится.
— А книжечка не сохранилась?
— Все сохранилось. Мы к нему не ходим, только я убираюсь иногда.
— Можно посмотреть?
— Вам — можно, — сказала старуха значительно.
Я двинулся к двери в кабинет, она проворно загородила дорогу.
— Туда не надо, Леонтий Николаевич. Я принесу.
Ну прямо святыня какая-то. Что за чудачество.
Принесла и прикрыла дверь. Я взял, перелистал. Юрия Красницкого нет, Леонтий Востоков присутствует. Как, впрочем, и Григорий Петрович Горностаев. Любопытно.
— А что с Маргаритой Павловной? — прошелестел за спиной тихонький голос.
— Она от меня ушла.
— Это нам известно.
Назойливый такой голосок, и слезящиеся глаза глядят назойливо.
— Так как вы себя считаете: холостым или женатым?
— Вот пытаюсь разобраться, Марья Петровна.
В прихожей она загремела замками, пробормотав тихо-тихо:
— Нету могилки-то.
— Чьей? — воскликнул я, но старушка явно заговаривалась:
— Вот я и говорю: нету. Сожгли, как он и сам написал.
— Прахов оставил завещание?
— Оставил. Сжечь, мол, и прах развеять над водой.
— Тьфу-ты! Развеяли?
— Замуровали.
— Где?
— Машенька замуровала, а где — не говорит.
На этом мы и расстались. Жуть какая-то! И почему меня не пустили в кабинет?.. Чтоб стряхнуть впечатление, я позвонил брату:
— Вась, запах вина перешибает кровь?
— Ты что? — заорал Василий.
— Я у тебя, как у медика, спрашиваю: запах вина…
— Ты чем занимаешься-то?
— Думаю.
— Где ты?
— В Москве у себя.
— Фу-х! — отдышался Василий и забрюзжал: — Только с работы, молодой девушке закрыл глаза, а ты тут… Ладно, сейчас приеду.
По Васькиному виду никто б не сказал, будто он только что проводил человека в последний путь: здоровый, цветущий и веселый. Но я знал, что кроется за этой веселостью: каждую смерть он переживал болезненно.
— Вот уже два года подозреваю, что ты не в себе! — загремел с порога. — Поймать бы этого поганца с письмами…
— Может, это поганка.
— Брось! Я ваш мирок нутром чую — писательский этот самый, богоизбранный. Тебя уже довели до импотенции?
— Слушай, полегче!
— Творческой, братец!
Я изумился про себя: ведь правда, за два года ни с кем… все они будто противны мне. Неужто в такой аскетической форме выражается моя любовь к жене? Василий словно подслушал и выпалил:
— Назло завистникам издавай двухтомник и женись.
— На ком?
— Господи, вот проблема-то!
Вера брата в нашу фамилию меня всегда подстегивает. А он развалился рядом на тахте и заявил:
— Вино перешибет — для твоего обоняния. Обыкновенного. Вот если б я принюхался, возможно, уловил бы. Какое вино?
— «Каберне».
— А, то самое. Почему ты говоришь про кровь?
— В письмах есть намеки. И нож пропал, охотничий.
— Да ты представляешь, сколько должно было пролиться кровищи? Впрочем…
— Не представляю.
— Зарезать человека…
— Да ладно, Вась.
— Что ладно?.. Может, она и доигралась.
— Что значит «доигралась»?
— Значит — догулялась.
Я поморщился: воистину — муж узнает последним. И вот интересно: даже брату я не мог рассказать об ученичке.
— Что ты о ней знаешь?
— Конкретно ничего. Но этого самого секса в ней было… пропасть. Сам небось помнишь.
И рад бы забыть — разве дадут? Вдруг вспомнилось жаркое лето шестьдесят седьмого, «шепот, робкое дыханье», и даже соловей пел на Тверском. Четверть века прошла — какие мы старые. Серьезно, я себя ощущал стариком.
— Все сложнее, Вась. Она была у Прахова перед смертью. Или в момент смерти.
— Она тебе говорила?
— В том-то и дело, что нет. А Коле соврала, будто вызвала к старику бабу Машу.
— Слушай, Леон, ему делали вскрытие?
— Делали. Инфаркт миокарда.
— А, сердцем страдал.
— Ничем он не страдал… физически. Душевно — может быть.
— Сумасшедший?
— Здоровее нас с тобой.
— Успокойся. Его же не зарезали. Хотя по законам жанра стоило бы.
Вспомнилось лицо покойного, к которому никто не подошел проститься, — и гроб поплыл на сожжение в огромных белых и бордовых цветах… Я сказал рассеянно:
— Так и не расплатился с тобой за цветы.
— Какие цветы?
— Прахову.
— И не расплатишься, — Василий засмеялся заразительно. — Разве что прогремишь по «всея Руси»… — и пропел красивым верным баритоном: «Ты ж гори, догорай, моя лучина, догорю с тобой и я…»
Словно сигнал прозвучал — и прояснил слегка тогдашний темный вечер. В сумеречном Дубовом зале я, уносясь ввысь, толковал с Милашкиным о судьбах цивилизации; растроганные члены вновь и вновь подхватывали печальную песнь, но без направляющего баритона (мы с братом сидели за соседними столиками спиной к спине) «Лучинушка» затухала. «Без вашего брата не то», — заметил Милашкин. — «А где он?» — поинтересовался я, повернувшись: густо-кудрявый затылок, а Вася изрядно лыс, в отличие от меня, кстати. — «Где он?» — и тут же забыл и вопрос и ответ. Забыл до сегодняшнего дня, до этой минуты.