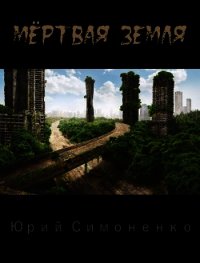Мертвая зыбь - Никулин Лев Вениаминович (книги бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
Якушев знакомился с Парижем 1923 года. Как изменился этот город по сравнению с довоенным временем! Он оставил его в 1908 году, когда улицами владели извозчичьи экипажи — фиакры, а на весь Париж было лишь несколько тысяч автомобилей, громоздких и неуклюжих. Город был наполнен перезвоном колокольчиков. Это фиакры подавали сигналы прохожим. То, что казалось тогда Якушеву ослепительной иллюминацией в витринах магазинов, меркло перед феерией разноцветных огней, которая поражала приезжих в 1923 году.
В довоенные годы очень редко можно было услышать здесь русскую речь, а теперь в районе авеню Ваграм она всюду. Но что это был за язык! За три года русские эмигранты стали говорить на каком-то странном наречии. Господин в поношенном пальто говорил даме:
— Возьмёшь метро на Этуали, сделаешь корреспонданс на Трокадеро и попадёшь в тентюрири [13] в апремидишное время [14].
Дама отвечала:
— Са ва. У нас к динэ пол лапена и сельдерей [15].
Обедал Якушев в районе Бианкура, в русском ресторане «Медведь», который в шутку называли «Собранием сводного офицерского полка». Здесь обращались друг к другу по чинам: ротмистр, капитан, поручик. Все они были либо шофёры, либо рабочие завода Рено.
Завязался разговор с усатым хорунжим. Тот сказал, что русских шофёров более двух тысяч, половина из «Союза галлиполийцев», все бравые рубаки. Казаки собираются пока что строить себе хаты под Парижем.
— А потом бросать все и на Дон?
— А вы сами откуда? — спросил хорунжий.
— Из Варшавы. А был в Сербии.
— Ну, как в Сербии? Говорят, седлают коней? Не нынче-завтра — поход?
— Откуда ж кони?
— Румыны дадут и поляки. Вы как полагаете, к Новому году попадём домой?
Якушеву нетрудно было понять этих озлобленных людей. И ему стали ещё более отвратительны Марковы, климовичи, врангели и кутеповы, которые поддерживают в них веру в поход на Дон. А скажи сейчас правду этим людям — едва ли живым отсюда уйдёшь.
26
Александр Александрович возвращался в гостиницу. Он не спешил и остановил такси на авеню Ваграм, вблизи площади Звезды. Здесь был ещё один, кроме Пасси, центр обнищавшей эмиграции. В грязноватых улочках между авеню Мак-Магон, где остановился Якушев, и авеню Ваграм было несколько дешёвых гостиниц, населённых главным образом русскими.
Русская речь слышалась на каждом шагу. Якушев шёл медленно, его заинтересовала вывеска над маленьким, втиснувшимся между двух магазинов кафе — «Свидание кучеров и шофёров». Вывеска была старинная — кучеров давно уже не видно в Париже.
На крохотной террасе, у самой стойки бара, сидели двое: пожилой, с взлохмаченной седой бородой, и молодой — бледный, довольно красивый, с синими кругами у глаз. Они о чем-то спорили — громко, как могли спорить только русские. Якушев подумал немного, подошёл к стойке и спросил пива. Он не садился, а стоял у стойки и медленно цедил пиво.
Молодой вдруг сжал в комок газету и швырнул на столик:
— Предатель!
— Кто? — спросил тот, что постарше.
— А вот, на второй странице.
Тот, что постарше, взял газету, разгладил и прочёл про себя: «Прага. Выступая перед эмигрантской молодёжью, П.Н.Милюков сказал: „Я не знаю, вернётесь ли вы когда-либо на родину, но знаю, что если вернётесь, то никогда это не сделаете на белом коне“.
— Да… Смело сказано.
— Изменник! — выкрикнул молодой.
Другой тяжело вздохнул:
— Ты, может, и вернёшься, Дима… Тебе двадцать семь, вернёшься хоть поездом… И то хорошо. А мне не придётся… Ни поездом, никак…
— Я вас не понимаю, Иван Андреевич!
— Что тут не понимать. Мне за пятьдесят. И я уж не надеюсь. А что тут мне делать? Тут, на Ваграме, в «Рандеву шофёров»? Я ведь родился там… Там у меня все: гимназия, университет, студенческие балы, первая любовь… могилы… И ничего. Ни-че-го. Жидкий кофе с круасаном, дыра на пятом этаже, постель с клопами… Я ведь математик… Наверно, им нужны математики? И что мне до белого коня, на котором въедет или, наверное, никогда не въедет какой-то генерал? Я этих генералов не знал и знать не хотел. Уж если Павел Николаевич Милюков говорит, значит, так и будет… Что мне генералы?
— А я их знаю! Я первопоходник корниловского полка… Я ещё покажу, я покажу… — уже не слушая, хрипло бормотал молодой. — Гарсон! — Он швырнул мелочь на стол и выбежал на улицу.
Другой русский, вздыхая, смотрел ему вслед.
Как хотелось Якушеву подойти к этому человеку и ободрить, сказать, что есть выход, что математики нужны родине и нечего ему торчать здесь, на Ваграме; таким, как он, путь домой не заказан, и многие возвращаются, у них даже газета своя выходит в Берлине…
Русский встал, поднял воротник выцветшего дождевика и побрёл по Ваграму. Расплатился и Якушев, вышел на улицу. «Первопоходник», тот самый молодой человек, на которого обратил внимание Якушев, все ещё стоял вблизи кафе, размышляя, куда идти. Мимо него проходили землекопы в испачканных землёй рабочих блузах. Они повернули к кафе, и один из них, очевидно, задел «первопоходника». Тот отшатнулся, лицо его выразило такое презрение и злобу, что землекоп, обернувшись, обозвал его «merde» (дерьмо).
«Первопоходник» шагнул к землекопу. Он стоял усмехаясь — здоровенный, широкоплечий. Рабочий понимал, что перед ним «белая кость», бывший офицер. «Первопоходник» тоже понял, чем может кончиться для него схватка, и, бормоча ругательства, ушёл.
Якушев размышлял о происшедшем. Конечно, землекоп знал, с кем имеет дело. Трудовой народ Парижа раскусил эмигрантов, особенно тех, кто не мог забыть дворянскую спесь… Какие ещё уроки нужны этим людям? Когда одумаются эти господа?.. Вероятно, не скоро.
И ещё у Якушева была встреча возле русской церкви на улице Дарю, встреча с девушкой, повязанной платочком, из-под которого глядели испуганные голубые глаза. Она шла позади супружеской пары — он с холёным лицом, с подкрашенными усами, рядом семенила супруга в старомодной шляпке под вуалью. Мельком брошенный в их сторону взгляд объяснил все: петербургский барин, его супруга и прислуга, несчастная русская девушка, вывезенная барином для чего-то в Париж.
Эту встречу долго не мог забыть Якушев. Вернувшись в гостиницу, он нашёл записку Арапова: «Вас ждут на рю де Гренель завтра, в девять утра». На рю де Гренель, в здании бывшего царского посольства, все ещё пребывал посол Временного правительства Маклаков, хотя многие эмигранты, и особенно монархисты, его не признавали и ненавидели. Левое крыло здания занимали тоже не признававшие посла Маклакова представители штаба Врангеля — генералы Миллер и Хольмсен. Якушев приехал туда в девять часов утра. Во дворе, загаженном мусором, уже толклись какие-то мужчины и женщины, спорили о том, кому первому пройти в канцелярию.
Арапов и Якушев поднялись по лестнице на второй этаж, где было почище и потише. Встретил их адъютант. Он был в штатском, но щёлкал каблуками и скользил по паркету, точно при шпорах и с аксельбантом через плечо.
Якушева ждали и тотчас провели к Хольмсену. По тому, как тот поспешил навстречу, можно было догадаться, что Арапов сделал ему хорошую рекламу.
— Много, много слышал о вас лестного… С особенным удовольствием вижу вас в добром здравии.
Якушев немало повидал на своём веку генералов, он знал, как обходиться с ними, и тотчас сказал, что считает для себя особой честью познакомиться с его превосходительством.
— Полковник фон Лампе просил лично вручить сам это письмо.
Хольмсен взглянул мельком на письмо и отложил.
Якушев, чуть понизив голос, спросил:
— Думается, что вашему превосходительству будет небезынтересно, какими письмами меня снабдил Николай Евгеньевич Марков?
— Ах, старая лиса… Любопытно, что он там написал?
13
В химчистку.
14
В послеобеденное время.
15
Идёт. У нас к обеду половина кролика и сельдерей.