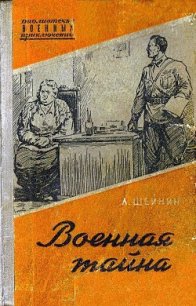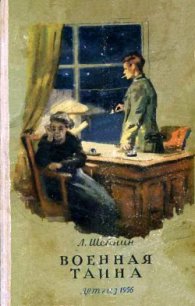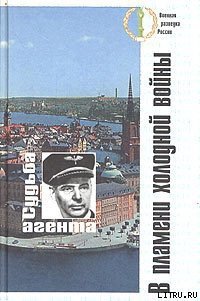Военная тайна - Шейнин Лев Романович (читаемые книги читать txt) 📗
— Да, да, — со вздохом ответил Леонтьев. — Я уже не раз думал об этом, мистер Грейвуд. Конечно, скорее всего я отправлю мальчика в Москву, чтобы он мог там продолжать учиться.
— В Москву? — чуть быстрее, чем следовало, произнёс Грейвуд. — Да, да, вы совершенно правы! Столица, что ни говори, — столица… Я понимаю вас…
И тут, как неожиданная молния в ночной тьме, блеснула в сознании полковника Ларцева долгожданная разгадка: вот, следовательно, ход, на который рассчитывал полковник Грейвуд и ради которого пошёл на такие сложные комбинации!.. Вот наконец долгожданное объяснение того, что ещё недавно казалось необъяснимым!..
После обеда Грейвуд предложил своим гостям покатать их по городу, и они вместе осмотрели полуразрушенный Нюрнберг, побывали в здании, где происходил суд над главными немецкими военными преступниками.
Поблагодарив Грейвуда за гостеприимство, Ларцев и Леонтьев простились с ним и двинулись в обратный путь.
Лишь теперь, окончательно убедившись во время визита к Грейвуду, что полковник Леонтьев никак с ним не связан, Ларцев решил открыть коменданту все карты.
Поэтому, как только они вернулись домой, Ларцев принял приглашение Леонтьева поужинать у него и, когда они остались вдвоём, подробно рассказал ему обо всех провокациях Грейвуда. Сергей Павлович слушал Ларцева, затаив дыхание, настолько всё это было для него неожиданным, негаданным, почти фантастическим.
— Как же вы, Григорий Ефремович, не сообщили об этом сразу? — вскипев, воскликнул Сергей Павлович. — Я в жизни бы не поехал к этому мерзавцу! А если поехал, то избил бы, его, как собаку!..
— Именно поэтому я не считал возможным рассказать вам об этом раньше, — усмехнулся Ларцев. — Кроме того, не забывайте, что от этого негодяя пока зависит судьба вашего сына. Набить морду — это не лучший выход из создавшегося положения, Сергей Павлович.
— Да, да, вы правы, — растерянно признал Леонтьев. — Но скажите, Григорий Ефремович, как же быть дальше?
— Я специально вам всё рассказал, чтобы вы правильно поняли то, к чему я сейчас перехожу, — в самом дружеском тоне ответил Ларцев. — Дело в том, что вам придётся на некоторое время исчезнуть. Необходимо, чтобы у Грейвуда создалось впечатление, будто его провокация удалась… Именно поэтому я просил вас сказать этому подлецу о моём назначении комендантом вместо вас и вашем отзыве в Берлин…
— Понимаю, — ответил Сергей Павлович. — Как же это будет оформлено?
— Я уже подумал об этом, — ответил Ларцев, — и привёз с собой приказ вашего начальства о том, что вы отзываетесь в Берлин, а полковник Семёнов — такова моя временная фамилия — назначается вместо вас. Завтра утром вы соберёте работников комендатуры, объявите приказ и я приступлю к своим обязанностям…
— А мне действительно нужно поехать в Берлин? — спросил Сергей Павлович.
— Да, на один день. Там вас ожидает путёвка в санаторий, и вы будете пока отдыхать или лечиться в Брамбахе. Само собой разумеется, Сергей Павлович, что всё это остаётся строго между нами и вам не следует решительно никому рассказывать обо всём, что произошло. Скажу больше: я и сам в нарушение правил всё вам рассказал лишь потому, что не хотел напрасно вас волновать…
— Ну, это понятно, — сказал Сергей Павлович. — Вот только как будет с Коленькой?
— Я подумал и об этом, — ответил Ларцев. — Я сам его приму, а потом созвонюсь с вашим двоюродным братом, Николаем Петровичем, и попрошу его взять пока племянника к себе…
— А когда же я увижу Коленьку? — с болью воскликнул Сергей Павлович.
— Как только мы закончим всю эту операцию, — ответил Ларцев. — Я понимаю ваше нетерпение, но согласитесь, Сергей Павлович, что, прождав сына почти пять лет, вы уж как-нибудь наберётесь сил ещё на один-полтора месяца. В конце концов всё, что делается, делается, в частности, и в интересах вашего сына. Вы должны это понять.
— Да, да, конечно, извините меня, — сказал Леонтьев, — но поймите и мою боль… И моё нетерпение…
Голос его дрогнул.
Ларцев подошёл к этому человеку, который с каждой минутой становился ему всё более симпатичен, и искренне, от всего сердца обнял его. Невольно он вспомнил при этом Ромина и его предложение арестовать полковника. “Да, — думал Ларцев, — хорошо бы мы все выглядели, если бы согласились с точкой зрения этого карьериста. Нет, нет, нельзя и на пушечный выстрел подпускать таких типов к нашим органам!”
Вошла фрау Лотта и пригласила офицеров к столу.
— Я надеюсь, что вы, фрау Лотта, и профессор не откажетесь с нами поужинать? — обратился к молодой женщине Сергей Павлович, дружески привязавшийся к этой немецкой семье.
— Я, право, не знаю, герр оберст, не злоупотребляем ли мы вашим гостеприимством, — смущённо ответила фрау Лотта, старавшаяся в последнее время реже встречаться с полковником.
— Ну что за пустяки! — ответил Леонтьев. — Мы будем очень рады вместе провести вечер. Я сейчас сам приглашу профессора.
Через несколько минут, ужиная вчетвером, советские офицеры оживлённо беседовали с профессором и фрау Лоттой.
Ещё при первой встрече с профессором Ларцев понял, что это честный и цельный человек, принадлежавший к той части немецкой интеллигенции, которая, питая отвращение к нацизму, уходила с головой в свою науку, сделав своим знаменем полную аполитичность.
А профессор Вайнберг с интересом беседовал с Ларцевым, который произвёл на него благоприятное впечатление своей деликатностью, спокойной манерой говорить и умением очень внимательно слушать собеседника.
Профессор уже давно оценил своего жильца, полковника Леонтьева, его душевную собранность и доброту, скромность в быту и преданность делу, которому он служит. Теперь Вайнберг познакомился со вторым полковником, который тоже оказался культурным и воспитанным человеком. Да, эти русские офицеры были совсем не такими, какими их изображали фашистские пропагандисты в течение многих лет. Беседуя с советскими людьми, профессор думал о том, что эти офицеры при всём различии их внешности, манеры разговаривать и, по-видимому, характеров были в то же время в чём-то сходны между собой. “В чём же?” — думал Вайнберг. И, отвечая самому себе на этот вопрос, приходил к выводу: скорее всего в том, что этих людей объединяет не только их национальность и военная профессия, но и одна система воспитания, при которой в них повседневно развивались любовь к родине, сознание общественного долга, принципы интернационализма и нетерпимость к какому бы то ни было зазнайству, обычно столь свойственному победителям. И невольно вспоминал профессор надменных гитлеровских офицеров с их бездушно жестокой агрессивностью, узостью интересов, с их утрированной выправкой, начальственными замашками и вычурными манерами, с такой характерной для прусской военщины привычкой иронически, со снисходительным превосходством относиться к штатским, любым штатским, в том числе и к людям науки и искусства. “Да, в этих советских офицерах нет ни малейшего признака представителей военной касты, — думал профессор, — они — дети нового строя, нового жизненного уклада, новой социальной системы”.
Беседа за столом коснулась и животрепещущей атомной темы. Заговорили о бомбах, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки.
— Скажу вам прямо, господа, — произнёс профессор, не пытаясь скрыть волнения, — если до того дня, когда были сброшены эти бомбы, у меня ещё мелькала мысль перебраться на запад, то после того, как это случилось, я окончательно решил оставаться здесь. Нет, нет, я не хочу, чтобы моя наука была в крови! В природе есть силы, с которыми не шутят. Я знаю, что атомную бомбу получили при помощи многих иностранных физиков, в том числе и моих немецких коллег. Я не хотел бы быть на их месте и от души жалею их!..
Старый профессор помолчал, глубоко задумавшись.
— И без того уже на совести моего народа слишком много крови, — снова заговорил он. — Я часто задаю себе мучительный вопрос: как могло случиться, что в самом центре Европы, в моей стране, подарившей миру столько великих людей, создавшей такую высокую культуру, в стране, прославленной трудолюбием и честностью её народа, победило кровавое безумие фашизма? Как сумели превратить десятки тысяч немцев в убийц, палачей и насильников и как я, старый немецкий профессор, и тысячи подобных мне учёных, писателей, инженеров, художников, педагогов и психиатров — как могли мы это допустить, этого не предвидеть! Как смели подчиниться этому кошмару? Вот чего никогда не простит нам история и за что нас осудят внуки!..