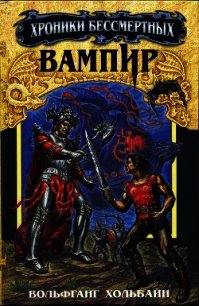Кровь тамплиеров - Хольбайн Вольфганг (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
Это была только его ошибка, его проступок. Он не хотел, чтобы Цедрик страдал от позора, ответственность за который он целиком брал на себя.
– Я исправлю ошибку, – пообещал он, не пытаясь уклоняться от пылающего гневом взгляда фон Ансена. Когда он продолжил, то постарался придать своему голосу убедительность и непреклонность, которые он надеялся вскоре почувствовать и сам – хотя бы на один короткий, все решающий момент. – Я убью мальчика. Но вы должны мне помочь.
Давид уселся в кресло в бюро Лукреции и с возрастающим нетерпением ждал подходящего момента, чтобы встать и выйти. Шариф, об угрюмом характере которого он составил себе представление уже в аэропорту, стоял на почтительном расстоянии от современного письменного стола, за которым в огромном, обтянутом белой кожей кресле восседала его мать, и делал ей доклад о его, Давида, прошлом.
Давид слушал этого человека, втайне давно уже окрестив его мясником, и ему было ясно, что речь действительно идет о нем. Несмотря на это, у него не было чувства, что все это имеет к нему непосредственное отношение.
– Деньги за обучение Давида выплачивались якобы из фонда для сирот, на самом деле не существующего, – объяснял Шариф в эти секунды, не удостаивая Давида взглядом. – Своего рода фирма – почтовый ящик. Но наши люди уверены, что смогут установить, куда ведет этот след.
Кончиками пальцев Давид потрогал деревянный крест под тенниской, висевший на старых деревянных четках; Лукреция дала ему их в комнате, которую все здесь называли колыбельной. Он начал задумчиво их перебирать.
Он находится в доме своей матери, думал Давид, но почему-то нисколько не ощущает себя дома. Прежде, в светлой детской комнате, которую она ему показала как доказательство того, что все эти годы непрерывно о нем думала, он не выдержал и прикрикнул на нее. Это не очень его огорчило. Чувство, что мать его любит, он испытывал лишь тогда, когда Лукреция каким-либо образом к нему прикасалась; но едва она его отпускала, это чувство в тот же момент исчезало. Когда она от него отстранялась, колесики у него в мозгу начинали отчаянно крутиться. Он вспоминал детали, и его одолевали непонятные сомнения. Что сделала его мать, когда вновь обрела сына после стольких лет разлуки? Она, не вмешиваясь, с улыбкой наблюдала за тем, как ее сумасшедший братец его заколол. Он ведь мог умереть. Да, верно, он действительно был другим, особенным – теперь он это окончательно понял и принял. Его раны проходили быстрее и не оставляли рубцов: там, где Арес проткнул его своим клинком, не видно было даже малой царапины от нападения этого Гунна, которое любому нормальному человеку стоило бы жизни. Но то, что он по какой-то причине не был обычным смертным, еще не означало, что он был бессмертным. Ибо сколько бы тамплиеры ни мечтали о легендарном Граале, бессмертие не было присуще человеку, и вопреки всем своим особенностям Давид всегда чувствовал себя человеком и никем иным.
Так что его разочарование в поведении Лукреции из-за той холодности, с которой она наблюдала, как ее сыну причиняют ужасную боль и вселяют в него дикий страх, было вполне понятно. Если бы святой мир монастыря, где он вырос, не был бы так беспричинно обрушен, он тосковал бы о нем в эти минуты и жаждал бы вновь там очутиться. Ему не хватало покоя и защищенности внутри привычных каменных стен, не хватало близости Стеллы. И Квентина! Без сомнения, Давид в нем сильно разочаровался. Он чувствовал себя обманутым в том, что касалось значительной части его бытия, он ненавидел монаха за ложь, которую тот по отношению к нему допустил. И несмотря на это, он ощущал потребность вернуться к этому доброму и милому человеку. Правда, Квентин, которого он хотел бы увидеть и под чьим присмотром хотел бы снова жить и учиться, был вчерашний Квентин, а не тот, каким он вдруг сейчас оказался.
Во всяком случае, Давид ясно понимал, что «Девина» не была тем местом, где ему ничто не угрожает. Он хотел бы поскорее отсюда выбраться. Хотел бы увидеть Стеллу, забрать ее с собой, чтобы где-нибудь вдали от монастыря, и от матери, и от всех сумасшедших этого мира рискнуть начать со Стеллой новую жизнь. Выполнить все это будет не так-то просто, в этом он был убежден. Кроме того, пройдет немало времени, прежде чем он сможет на новой родине, где бы она ни была, почувствовать себя как дома и в полной безопасности. Здесь это чувство определенно никогда у него не возникнет.
– Мы сможем найти Гроб лишь тогда, когда уберем с дороги Метца и тамплиеров и отыщем все реликвии, так как именно они приведут нас к цели, – сказала Лукреция не терпящим возражений тоном.
Уверенность, с которой его мать произнесла эти слова, словно все это само собой разумелось, напугала Давида.
Мать встала и подошла поближе к нему, бросила на него взгляд, который он не смог истолковать и потому на него не ответил ни взглядом, ни как-то иначе.
– В чем дело, Давид? – спросила она. – Что у тебя на сердце?
Давид встал с кресла. О, как много всего было у него на сердце! Он был разъярен и разочарован и не собирался оставаться здесь ни секунды дольше, чем этого требовало от него хорошее воспитание, даже если она его мать, его бабушка и его сестра одновременно. Он узнал все, что считал важным, и даже немного больше, от чего он охотно бы отказался. Он познакомился со своей матерью, услышал, что его отца уже нет в живых и что Квентин лгал ему, уверяя, что младенцем его нашли близ монастыря. Давиду придется учиться жить с этим багажом знаний, чтобы затем оставить его в прошлом, порвать со своими детством и юностью и начать новую жизнь, как подобает взрослому, отвечающему за себя человеку. Все равно, будет ли это в Шанхае, Берлине или в глиняной хижине на побережье Северной Африки, он сможет найти место на этом свете, где вновь обретет душевный покой и где фон Метц никогда его не отыщет.
– Я не знаю, – нарочито медленно ответил он и беспомощно пожал плечами. Нет, не только хорошее воспитание мешало ему посмотреть Лукреции прямо в глаза. Черт, почему материнская любовь непременно должна быть такой надо всем преобладающей и такой всевластной? – Знаешь, определенным образом все это меня никак не касается, – смело выдавил он из себя.
– Никак тебя не касается?! – возмутилась Лукреция. Материнская забота, которая до этого звучала в каждом произнесенном ею слове, внезапно исчезла из ее голоса. Давид боролся внутри себя с противоречивыми чувствами и искал подходящие слова, чтобы смягчить ситуацию. Но прежде чем он смог найти нужные слова, черты Лукреции вновь смягчились и она подошла к нему еще ближе, чтобы пристально посмотреть ему в глаза. – Твоя кровь течет в моих жилах, Давид, – прошептала она умоляющим тоном. – Ты – Сен-Клер! Член ордена приоров.
Он ничего не сказал, ответив ей лишь неуверенным взглядом. Мать все больше его пугала… Является ли это нормальным в отношениях между матерью и сыном? Становится ли это причиной того, что дети порой без возражений слушают своих родителей?
– Гроб – это наша судьба! – продолжала Лукреция, повысив голос. – Твоя судьба! На тебе лежит большая ответственность, Давид, и ты не можешь так просто от нее освободиться.
Она отвернулась от него и приблизилась на несколько шагов к Шарифу, прежде чем посмотрела на юношу снова.
– Фон Метц убил твоего отца! Он хочет убить и тебя тоже! – взволнованно добавила она, в то время как Давид все еще беспомощно молчал. – А что, ты думаешь, он сделал с твоим другом Квентином, когда тот перестал быть ему нужным?
Давид, сбитый с толку, встревоженно сморщил лоб. Сделал с Квентином? Какой вред этот сумасшедший мог причинить Квентину? И что значит «когда тот перестал быть ему нужным»? Он полагал, что монах и фон Метц, похитивший мальчика, были друзьями и вместе, в добром согласии, решили поместить его в отдаленный и безопасный монастырь под присмотр монаха. Это было именно так – то, что они сделали. Но слова матери, кажется, полностью это опровергают. Что-то нашептывало Давиду, что он вообще не хочет знать ответа на этот вопрос – по крайней мере, не сейчас. Свалившейся на него за последнее время информации было слишком много. У него появилось чувство, что его голова обязательно лопнет, если он узнает еще что-нибудь подобное. Он прикусил нижнюю губу и сосредоточился на боли, с которой его зубы погружались в плоть; ему хотелось, чтобы физическая боль, которую он сам себе причинял, заглушила муку в его истерзанной душе.