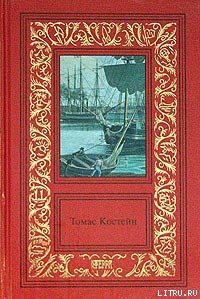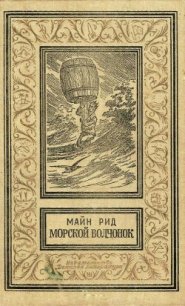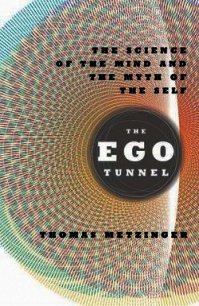Ассасины - Гиффорд Томас (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью .TXT) 📗
А подумал я о нем вот почему. Робби Хейвуд мог быть связующим звеном с прошлым.
Во время войны он находился в Париже.
Я позвонил ему домой, но никто не ответил. Хотел было позвонить в «Пеструю кошку», но затем решил сделать старику сюрприз. Прогулка под холодным дождем пошла мне на пользу. Похоже, само ощущение пустыни наконец удалось подавить, и оно уже не терзало мозг, глаза и кожу. Нет, с пустыней вполне можно справиться, только дайте мне для этого прогуляться под дождем по оживленным улицам города, где повсюду люди, запах выхлопных газов, бензина, мокрые тротуары.
Квартира Робби находилась в одном из самых старых и обветшалых зданий Парижа, на Пляс де ла Контрескарп, где почти пятьсот лет назад мог разгуливать Рабле. Викарий обожал этот район за его древность и историю. Как-то раз он устроил мне целую экскурсию по этим местам, привел к дому по адресу Рю Муфертар, 53, неподалеку от площади, где в 1939 году рабочие нашли 3351 золотую монету из золота самой высокой пробы. То были деньги Людовика XV, спрятанные здесь давным-давно его казначеем. Робби только что переехал в свою квартиру с видом на площадь и так возбужденно рассказывал об обнаружении клада, точно это случилось вчера. Викарий вообще умел возродить прошлое к жизни, и вот теперь я собирался поведать ему историю, от которой он наверняка придет в восторг. Грязные дела, шантаж и убийства, и все это происходит в римской Церкви.
Я вышел из гостиницы. И мной тут же овладела радость узнавания, и воспоминания о маме, ее загадочной смерти и той причине, которая могла подтолкнуть ее к самоубийству, постепенно отступили на второй план. Этот город всегда действовал на меня успокаивающе. Я мог думать и вспоминать о маме и сестре, но впервые за долгое время эти воспоминания не сводили меня с ума. Я пересек бульвар Сен-Жермен у Пляс Мобер, тоже хорошо знакомый район благодаря Викарию и его кровавой истории, так как площадь эта служила в давние времена местом казни. В 1546 году, во времена правления Франциска I, здесь пытали гуманиста, философа и печатника Этьена Доле, предварительно объявив еретиком. А потом сожгли, и для казни использовали в качестве растопки собственные его книги. Жадные взгляды толпы, дикие возбужденные ее крики — вот, должно быть, последнее, что видел и слышал несчастный Доле. Проходя через эту площадь, Робби Хейвуд всякий раз салютовал памятнику монсеньеру Доле. «Времена меняются, — говорил при этом он, — но Париж никогда не дает тебе забыть и простить». Теперь же здесь расположился открытый рынок, и торговля шла шумно и бойко прямо под дождем.
Я шел по Рю Монж, затем свернул на улицу Кардинала Лемоэна и вскоре вышел на Контрескарп. Ветра почти не было, облетевшие листья липли к мокрому тротуару. Впереди плыл в воздухе величественный купол Парфенона. Он походил на космический корабль, который или готов вот-вот приземлиться, или, напротив, только что взмыл в небо в дожде и тумане. Я стоял, затаив дыхание, и не сводил глаз с окон квартиры Робби на втором этаже. Они были наглухо закрыты ставнями, по ним безжалостно барабанил дождь, струйки воды стекали с карниза на подоконники. Это место всегда напоминало мне сцену из старого черно-белого фильма, где Жан Габен играет очередного крутого парня. В центре дворик — с деревьями и клочком газона. Деревья с облетевшей листвой стояли мокрые, черные, одинокие и выглядели так жалко. Веками этот район наводняли клошары, всякие бродяги, оборванцы и прочие подозрительные личности, и здесь всегда превалировал серый цвет. Казалось, они поджидали моего возвращения, не тронулись с места, ничуть не изменились за все эти годы. Сидели под деревьями, сбившись в кучи, в свитерах и дождевиках. Пара огромных черных зонтиков отливала мокрым блеском и походила на гладко отполированные валуны. Еще несколько бродяг забились в упаковочную клеть.
«Пестрая кошка» была на месте, бар и кафе с видом на площадь и низким козырьком навеса в полинялую бело-зеленую полоску. Полотно провисло, в нем собрались маленькие лужицы. Этому навесу определенно не дожить до следующего лета. Белая краска на стенах облупилась, а в некоторых местах вздулась пузырями. Я пересек площадь под пристальными взглядами клошаров и вошел в заведение, где у Викария было нечто вроде рабочего кабинета.
Огромный толстый кот вальяжно раскинулся в дальнем конце стойки бара. Сощурившись, смотрел на меня, кончик хвоста ходил налево и направо, напоминая маятник старинных дедовских часов. Или тот самый кот, что жил здесь всегда, или же кто-то из его потомков. Ничего не изменилось. За стойкой по-прежнему стоял Клод и болтал с каким-то лысым господином с заостренным в форме пули черепом и огромным носом, в который ушло все его лицо. Переносицу оседлали очки в черной оправе. На нем был черный костюм, белая рубашка, черный галстук. «Этот притончик, — сказал мне Робби, когда впервые привел сюда, — служит мне кабинетом. Клод из австрияков, ему можно доверять, не то что этим гребаным лягушатникам. Здешняя помойка для честных людей, ваша светлость, единственная нормальная помойка во всем городе».
Клод двинулся ко мне, кот лениво поднялся и затрусил следом по стойке, потом вдруг остановился и зашипел.
— Мистер Дрискил, — сказал бармен, — вот уж кого давненько мы здесь не видели, сэр.
— Да, почти десять лет, — кивнул я. — У вас хорошая память. А вот киска, похоже, меня не помнит.
— Так Бальзака вы никогда не видели. Ему только шестой год пошел. Весь в папашу, такой же похотливый стервец. У него одна забота — писать в горшок с банановым деревом. — А вот это было нечто новенькое. У двери торчало из кадки растение с грязными длинными листьями. — Бальзак решил поливать его вместо меня. Писает чуть ли не каждый день. Да нет, какой там, два раза в день, вот банан и растет, как бешеный. Так и прет. Наверное, от страха. — Он вздохнул. Я заказал пива.
— А Викарий сегодня заходил? Хотел сделать ему сюрприз.
С улицы донесся раскат грома, Бальзак навострил уши, слегка склонил набок круглую голову. Клод поставил передо мной бокал.
— О Господи, — вздохнул он, — о Боже ты мой милостивый! — Потом покосился на лысого господина с длинным носом и кивком подозвал его. — Поди сюда, Клайв. Это Бен Дрискил. Наверное, слышал, как Викарий о нем рассказывал.
Мужчина подошел, протянул руку. Я пожал ее. Рука была холодной и вялой.
— Клайв Патерностер, рад познакомиться. Робби страшно огорчился, узнав о смерти вашей сестры. Так и слышу его слова: «Это черт знает что». Этим летом они несколько раз виделись. Тогда я с ней и познакомился. Ах, бедный старина Викарий...
— Где он? — спросил я. — Только не говорите, что работает. — И я улыбнулся, но ответных улыбок не последовало.
— Вы опоздали всего на три дня, друг мой, — сказал Клайв Патерностер и шмыгнул своим огромным носом. — Сгорел наш Викарий синим пламенем. Его больше нет, мистер Дрискил. А ведь еще сравнительно молодой человек. Лет семидесяти с хвостиком. Мне самому шестьдесят три. — Он вернул съехавшую оправу очков на прежнее место. — Викарий умер, мистер Дрискил, в самом расцвете лет и сил.
— Прискорбно слышать, — заметил я. Голос мой слегка дрожал. — Хороший был человек. — Так, значит, он виделся с Вэл! Но зачем? О чем они говорили? Ведь и он тоже был в Париже во время войны... — И как же он умер?
— О, очень быстро, — с горечью ответил Клод и погладил кота. — Особо не мучился. — И он мрачно покосился на Патерностера.
— Да, подрезали на корню, в самом расцвете лет...
— Что-то я не совсем понимаю...
— Убили его, на улице, — тихо произнес Клайв Патерностер. — Какая-то сука вонзила в него нож. — Он взглянул на наручные часы. — Кстати, вы успели как раз к похоронам. Мы хороним Викария ровно через час.
...Викария похоронили на маленьком кладбище, в какой-то совершенно жуткой и заброшенной части города, неподалеку от железнодорожных путей. Гроб был самый простой, насквозь простуженный священник не слишком старался, кругом серость, грязь, яма полна воды. Дорожка, ведущая к могиле, усыпана коричневым гравием, газон подстрижен слишком коротко и приобрел цвет гравия. На похоронах присутствовало всего шестеро скорбящих, никто не плакал и не ломал руки от отчаяния. Вдоль дорожки были высажены в два ряда вечнозеленые деревья, эта симметрия казалась какой-то уж чересчур парижской. Так уходил из этой жизни Викарий, и смысл его ухода был ясен: лучше жить, чем умереть.