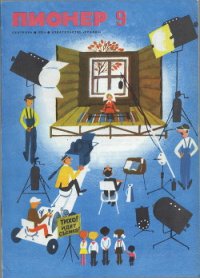Алые перья стрел (сборник) - Крапивин Владислав Петрович (книги бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
«Умирать в бою за свободу легко — это необходимость. Умирать на эшафоте тяжело — это жертва… Зачем я не погиб под снарядами на борту «Очакова»? Зачем пощадили меня пули, когда под пулеметами плыли мы в воде?!»
Я не знаю, точно ли передаю слова. Тогда в голову не пришло заняться выпиской цитат. Торопливо листая страницы, переписанные Анной Избаш, я читал последнюю речь лейтенанта Шмидта и словно слышал его голос. И запомнились не столько слова, сколько ощущение яростной интонации гневного и справедливого обличителя…
Снова пронумерованные разнокалиберные листы: приговор, газетные вырезки, письма. Клочок бумаги. Сверху — размашисто: П.
Шмидтъ, П. Шмидтъ, П. Шмидтъ. Ниже — несколько строк. Это уже после приговора Врублевский пришел к Шмидту и попросил что-нибудь написать на листке. Он сказал:
— Я буду хранить всегда…
Шмидт порывисто набросал то, что говорил несколько месяцев назад на севастопольском кладбище, призывая к свободе. Он требовал поклясться здесь, на могилах расстрелянных войсками демонстрантов, что каждый отдаст свои силы для служения обществу, для революции. Он первым сказал: «Клянусь!»
Это «Клянусь!» как подпись стояло на листе. Тот, кто писал, до конца выполнил клятву…
Я уезжал из Вильнюса в тот же вечер. Думал о неожиданной встрече со Шмидтом. Ощущение яростной интонации не проходило. Образ стал четким и ясным. Живым.
В поездку, о которой написано выше, я отправился после участия в Четвертом Всесоюзном совещании молодых писателей. Оно состоялось в Москве в мае шестьдесят третьего года.
Собралось нас на семинаре одиннадцать человек. Ждали двенадцатого. Сидели в кабинете у Льва Кассиля. Лев Абрамович постукивал карандашом по зеленому сукну стола, молчал и почему-то слегка усмехался.
Волгоградец Юра Мишаткин встал и сказал:
— Иду в поиск.
И пошел. Вернулся минут через пять. Неторопливо сел на диван. Помолчал. Улыбнулся. У него были изящные манеры и такая же внешность. Московские окололитературные девицы, всеми неправдами проникшие на совещание, принимали его за «поэта модных направлений». И разочарованно хлопали ресницами, узнав, что Юра «всего-навсего» автор детских книжек.
Юра улыбнулся и сказал:
— Товарищ, которого мы ждем, не придет. Он в другом семинаре. Его потянуло к «серьезным музам».
— Куда? — мрачно переспросил молчаливый бородач Игорь Ефимов, автор великолепных веселых рассказов о мальчишках.
— В большую литературу, — вежливо объяснил Юра.
— Большая — это когда пишут про больших и для больших? — осведомился украинец Вадим Скоморовский.
— Выходит, так… Ладно, переживем.
— Переживем, — подытожил Лев Абрамович. — Стало нас меньше, но… — он энергично сжал ладони.
— Что же твой земляк-уралец нас покинул? — спросил меня сосед.
Я пожал плечами. Выпускал поэт в Свердловске детские книжки, называл себя детским автором и вдруг…
Дело, конечно, хозяйское. Но, по-моему, грустно, когда автор смотрит на свои произведения для детей, как на пробу пера.
— Есть писатели, — говорил Лев Абрамович Кассиль, — которые как чумы боятся слова «детский». А я это звание всегда принимал как похвалу.
Честное слово, мы тоже принимали бы его как похвалу. Начинающему литератору трудно претендовать на это почетное звание. Но так или иначе, а взявшись писать рассказы, повести или стихи для ребят, он берет на себя ответственность. Детская литература — это воспитание. И если уж пробовать здесь силы, то не для того, чтобы потом «прыгнуть в серьезное творчество», а для того, чтобы рано или поздно дать читателям книгу, которая станет у них одной из любимых.
По-моему, такая мечта есть у каждого, кто пишет для детей. Есть она и у меня. Не знаю, сумею ли я написать такую книгу. Но хотелось бы рассказать в ней о товарищах детства — иногда суровых, насмешливых, но великодушных, о моих нынешних друзьях-мальчишках, о романтике отчаянных игр и первых настоящих дел, о революции, которая живет в каждом из нас. О Шмидте.
Почему именно Шмидт? Так получилось. Иногда трудно объяснить то, что легко почувствовать. Может быть, потому, что образ его в детстве соединял для меня извечную романтику бороздящих море парусников и героику красного флага революции. А если пишешь для ребят, все равно, вольно или невольно, впечатления собственного детства входят в книгу.
Впрочем, возможно, что в этой книге я не напишу о Петре Шмидте. Ни слова. Но он будет стоять рядом у письменного стола, прямой, тонкий, нервный. Раздраженно похрустывая пальцами, с иронической усмешкой станет следить за моим карандашом: «Ну, что? Опять ни черта у вас не получается, молодой человек? Разве так пишут об этом?»
Сюжет еще расплывчат, многое неясно. Известно лишь одно: если и не будет в книге образа Шмидта, то мальчишки все равно будут. Те самые: спокойно-озорной Сережка с теплохода «Клара Цеткин», влюбленный в море.
Виталька, вильнюсские «мушкетеры» и еще многие-многие из тех, с кем я встретился и подружился — уральские, московские, прибалтийские, черноморские ребята.
Пусть у каждого из них появится в душе свои лейтенант Шмидт, Чапаев или Гагарин, Гаврош или Павлик Морозов [12], Спартак или Гарибальди. Пусть все они мечтают о море, о звездах, о дорогах и подвигах.
Пусть у каждого из них останется в жизни след его Каравеллы.
И для этого совсем не обязательно быть влюбленным в паруса. Время летит стремительно. Появляются новые пути и новые герои. Мальчишки уже не так часто пускают в лужах кораблики. Да и луж теперь бывает меньше. Улица, где плавали наши парусники, залита асфальтом. Но она не стала менее шумной и менее веселой.
Между прочим, когда запускают самодельную ракету класса «Желтый гном», раздается шипящий свист, со старого тополя сыплются листья, а из открытых окон визгливо кричат испуганные соседки.
А на асфальте остается темное лучистое пятно, словно здесь сгорело маленькое солнце.
ПАРУСА
У этого очерка довольно бестолковая история. Написал я его и напечатал в «Уральском следопыте» около двадцати лет назад, но потом долго не мог найти ни журнала с этой публикацией, ни даже рукописи. Только отыскал тетрадный листок с карандашным наброском самого начала. Первая главка называлась «Тайные письмена». Этот отрывок я вставил в рассказ о старинных картах, включенный в цикл «Ржавчина от старых якорей. «Паустовские» рассказы». А недавно очерк нашелся — вырванные из старого журнала листы, соединенные ржавой скрепкой.
Вообще-то о своем друге Евгении Пинаеве я писал немало, но и эти страницы, мне кажется, не будут лишними. Только приходится помещать здесь очерк без нескольких первых абзацев — они слишком крепко вросли в рассказ «Паустовского» цикла.
…С давних пор мне казалось: каждый человек должен в жизни встретить свои тайные письмена. И не бояться их прочитать. Чтобы достигнуть задуманного…
Пинаев кажется мне именно тем человеком, который прочел свои тайные письмена и нашел свое призвание. Хотя это было очень нелегко.
…Как-то он дал мне старую общую тетрадку — свой детский дневник. Я прочитал за один вечер эти полторы сотни страниц, написанные в сорок седьмом году почерком не очень прилежного шестиклассника. Прочел сразу, потому что детство Жени Пи-наева в казахстанском городке Щучинске во многом было похоже на мое. Это во-первых. А во-вторых, потому, что написано это удивительно живо. Уже тогда хозяин тетрадки писал заметки и рассказы и посылал их в «Пионерскую правду». Заметки иногда печатали.
«Может быть, когда вырасту, я стану писателем?»
А еще ему очень хотелось стать моряком. На парусниках.
12
Не раз редакторы уговаривали меня убрать упоминание о Павлике Морозове: мол, время сейчас иное, Павлик стал «одиозной личностью», «символом предательства».
Я не убрал и убирать не буду. Во-первых, очерк написан в те годы, когда на многие вещи и на многих людей в истории смотрели иначе. Историю не следует ретушировать. Во-вторых, до сих пор не ясны все детали: что говорил Павлик следователям, «доносил» или не «доносил» на отца (который, кстати, был жуликом и пьяницей, издевавшимся над сыном и женой). В-третьих, его убили не за отца, а за то, что отстаивал власть и принципы жизни, которым верил до конца. Мальчишке очень хотелось светлого будущего, и он боролся за него, как умел. Он был обманут, как миллионы других людей. Но он был честен. Верность идеям надо уважать во все времена.